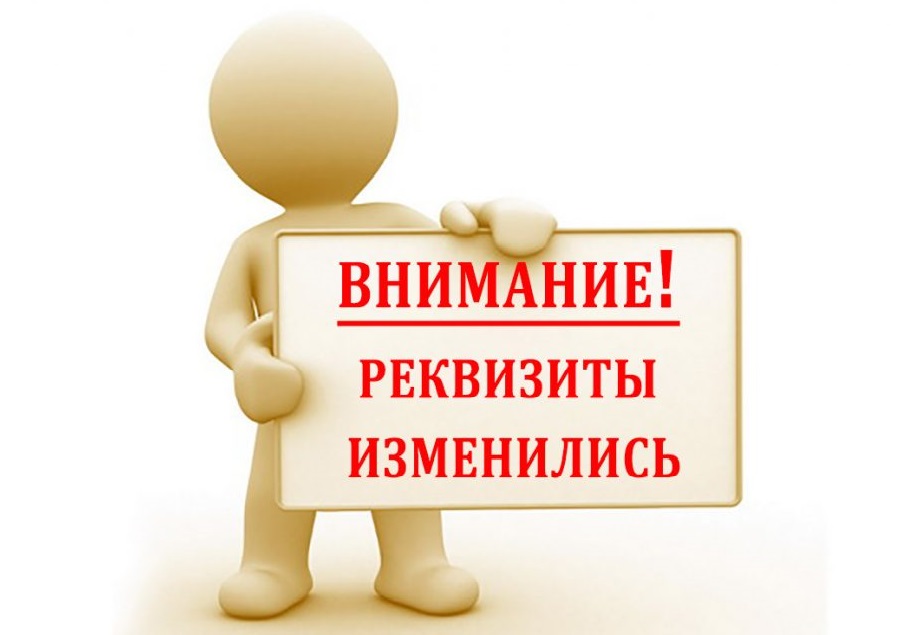решение вопроса
|
Причины |
Результаты |
Последствия |
|
ОТВЕТ: нехватка промышленных товаров для обмена на зерно, низкие государственных цен, неурожай в ряде районов дипломатические конфликты с европейскими странами |
ОТВЕТ: сократилась продажа зерна и других продуктов горожане бросились раскупать товары первой необходимости сорван план вывоза зерна |
ОТВЕТ: сокращались промышленные программы, подскочили цены выколачивание хлеба В 1929 г. были введены карточки Россия вернулась на путь |
ответил
12 Май, 17
от
сирень
Похожие вопросы
Хлебозаготовки в СССР — мероприятия по централизованной заготовке зерновых, имеющие задачу обеспечить достаточное наличие хлеба по цене соответствующей интересам всего социалистического хозяйства в целом. В. И. Ленин ставил проблему о хлебе как проблему социализма: «кажется что это борьба только за хлеб, но на самом деле это борьба за социализм».
Формы и методы организации хлебозаготовок, начиная с Октябрьского переворота 1917 года, изменялись, отражая на каждом этапе состояние народного хозяйства, его рост, усиление соц.сектора, вытеснение и ликвидация капиталистических элементов.
К осени 1927 государство установило твёрдые цены на хлеб. Быстрый рост индустриальных центров, увеличение численности городского населения вызвали огромный рост потребности в хлебе. Низкая товарность зернового хозяйства, неурожай зерновых в ряде регионов СССР, (преимущественно на Украине и Северном Кавказе) выжидательная позиция поставщиков и продавцов и ряд указанных ниже причин привели к событиям именуемым «хлебной стачкой». Несмотря на незначительное снижение урожая (1926/27 — 78393 тыс.т 1927/28 — 76696 тыс.т.) в период с 1 июля 1927 по 1 января 1928 государством было заготовлено на 2000 тыс. т. меньше чем в тот же период предшествующего года. В Резолюции Пленума ЦК ВКП(б) от 10 июля 1928 года «Политика хлебозаготовок в связи с общим хозяйственным положением среди специфических причин появления „затруднений на хлебном фронте“ указывалось:
Кардинальная перестройка партийной, советской и хозяйственной работы в деревне проходила в сложной обстановке хлебозаготовительного кризиса. Этот кризис, проявившийся в конце 1927 г., был порожден рядом экономических, социально-экономических и организационных причин. Объективной основой кризиса была неспособность мелкого единоличного крестьянского хозяйства обеспечить необходимое увеличение товарной продукции.
Расширение промышленного строительства, увеличение индустриального населения вели к росту рыночного спроса на хлеб. В 1926/27 г. потребление хлеба городским населением было на 27% больше, чем в 1913 г. Не удивительно, что небольшое снижение валовой продукции зернового хозяйства в 1927— 1929 гг. должно было чувствительно сказаться на снабжении городского населения, промышленности и армии.
1926/27 год был наиболее благоприятным годом в развитии хлебозаготовок за период от Октябрьской революции до перехода к сплошной коллективизации. Организованные заготовки из урожая 1926 г. достигли наибольшей для того времени цифры— 116,4 млн. центнеров. Иная обстановка сложилась во второй половине 1927 г. Высокая конъюнктура на сырьевом рынке при хорошем урожае на технические культуры создала возможность для зажиточных слоев деревни и значительной части середняков покрыть свои денежные расходы за счет реализации сырьевых культур и продуктов животноводства.
Страна оказалась перед тяжелейшим хлебозаготовительным кризисом, который мог повести к общему хозяйственному кризису, к срыву индустриализации и всего дела социалистического строительства. Чисто экономическими мероприятиями справиться с кризисом было невозможно. Советское государство не имело достаточных хлебных резервов, чтобы, выбросив на рынок миллионы пудов зерна, сбить спекулятивные цены и экономически принудить зажиточные слои деревни продавать свой хлеб на условиях, диктуемых государством. Не было у государства и достаточных валютных резервов, чтобы ввезти из-за границы необходимый для этого хлеб.
Борьба за преодоление хлебозаготовительных трудностей
Вопрос о хлебе потребовал от партии мобилизации всех ее сил для организации наступления на кулачество, для сплочения бедняцко-середняцких масс крестьянства. Лучшие силы партии были направлены на хлебозаготовительную работу, в местные партийные организации, в деревню. Только за январь — март 1928 г., по неполным данным, на хлебозаготовки было командировано свыше 4 тыс. ответственных работников-коммунистов из краевых, губернских и окружных организаций и около 25 тыс.— из уездных, районных и волостных организаций. 30-тысячный отряд коммунистов помог местным организациям сосредоточить силы на борьбе с кулацкой опасностью, перейти к практическому осуществлению директивы XV съезда партии о развертывании наступления на кулачество.
Решительную поддержку политике Коммунистической партии в деле хлебных заготовок оказал рабочий класс. Коллективы промышленных предприятий увеличивали производство необходимых крестьянину товаров. В основные зерновые районы направлялись рабочие бригады. Они оказывали помощь сельским партийным ячейкам и деревенской бедноте в борьбе с кулацким саботажем хлебозаготовок, вели разъяснительную и организационную работу.
Советское государство усилило налоговое обложение зажн-точно-кулацких хозяйств, потребовало от финансовых организаций, от сельских и волостных советов своевременного сбора налоговых платежей, действительного проведения в жизнь закона о самообложении сельского населения на культурно-бытовые нужды деревни. Одновременно был резко увеличен завоз промышленных товаров в сельские местности, особенно в хлебозаготовительные районы.
Вместе с тем Коммунистическая партия и Советское государство оказались вынужденными прибегнуть к чрезвычайным мерам против кулачества и спекулянтов, против организованной ими хлебной стачки. К кулакам, отказавшимся сдать излишки хлеба по государственным ценам, и к хлебным спекулянтам с января 1928 г. стала применяться статья 107-я Уголовного кодекса, согласно которой виновные в спекуляции должны привлекаться к судебной ответственности, а их товары конфисковываться в пользу государства. При этом 25% конфискованного у кулаков и спекулянтов хлеба распределялось среди бедняков.
С помощью принудительных мер в зажиточно-кулацких хозяйствах было изъято около 2,4 млн. центнеров хлеба.
В ходе классовых боев с кулачеством Коммунистическая партия добила-сь перелома в заготовках хлеба. За три первых месяца 1928 г. государство получило хлеба на 18 млн. центнеров больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Таким образом, дефицит, образовавшийся к началу 1928 г., был почти покрыт, кулацкая хлебная стачка сорвана.
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) (апрель 1928 г.) отмечал «крупнейшие успехи в деле усиления хлебозаготовок», в результате которых «удалось смягчить, а затем и изжить перебои в снабжении городов, Красной Армии и рабочих районов, предупредить снижение реальной заработной платы, ликвидировать недоонабжение хлебом хлопководческих и льноводческих районов, а равно и районов лесных заготовок, и, наконец, создать известные минимальные хлебные резервы» ‘.
Указывая на такие положительные явления, как улучшение партийной работы в деревне, ослабление роли и влияния кулачества, повышение авторитета Советской власти среди основных масс крестьянства, пленум решительно осудил извращения и перегибы, допущенные в ходе хлебозаготовок, когда чрезвычайные меры в ряде случаев стали применяться не только против кулацких хозяйств, но и против середняцких. Пленум потребовал «беспощадной борьбы с такими методами и немедленной ликвидации подобных перегибов и извращений»1 2. В резолюции пленума подчеркивалось, что «по мере ликвидации затруднений в хлебозаготовках должна отпасть та часть мероприятий партии, которая имела экстраординарный характер» 3.
Однако обстановка, сложившаяся в деревне весной 1928 г., создала новые трудности, вновь привела к падению хлебозаготовок. Зима и весна 1928 г. в южных районах страны, особенно на Северном Кавказе и Украине, были очень неблагоприятны для озимых посевов. В целом по стране погибло 7 млн. гектаров (16,5%) озимых. Естественно, что крестьянство в этих районах, игравших особенно большую роль в хлебозаготовках, резко сократиЛо продажу зерна. Государство должно было незамедлительно оказать крестьянам помощь семенами. Погибшие площади были почти полностью пересеяны. Это потребовало от государства дополнительного расхода зерна из собственных ресурсов. Яровая семенная ссуда почти вдвое превышала объем апрельских заготовок хлеба по всей стране.
Основные заготовки хлеба были перенесены в районы Поволжья, ЦЧО, Урала, Сибири, Казахстана. Необходимость восполнить недобор хлеба на Северном Кавказе и Украине и покрыть расходы на семенную ссуду вынудила осуществить новый нажим на зажиточные хозяйства. Повторное применение чрезвычайных мер сильнее, чем в январе — марте, задело середняцкие слои крестьянства. Июльский (1928 г.) пленум ЦК партии, анализируя создавшуюся обстановку, указывал на случаи административного произвола в заготовительных районах, нарушения революционной законности, частичного применения методов продразверстки (закрытие базаров и т. п.). Эти обстоятельства вызвали недовольство среди некоторых слоев крестьянства, способствовали активизации контрреволюционных элементов.
Партия, осуществляя решительные меры по ликвидации допущенных перегибов, добилась нормализации обстановки в деревне и в стране в целом.
В 1927/28 г., несмотря на применение чрезвычайных мер, государство заготовило 110,3 млн. центнеров хлеба, т. е. на 5,3% меньше, чем в 1926/27 г. Правда, в 1927/28 г. государство еще смогло увеличить объем планового снабжения хлебом населения, армии и промышленности. Всего из плановых хлебных ресурсов на внутреннем рынке было реализовано за этот год 101,7 млн. центнеров (на 28,8% больше, чем в 1926/27 г.).
Однако, чтобы обеспечить столь значительный рост внутреннего потребления хлеба, пришлось резко сократить хлебный экспорт и переходящие запасы.
Новое снижение заготовок хлеба с 1928/29 г. тяжело отразилось на экономическом положении страны. На снабжение населения было направлено 80,3 млн. центнеров против 89,7 млн. в 1927/28 г. Экспорт хлеба сократился до 0,8 млн. центнеров. Продовольственные трудности заставили Советское государство перейти к нормированному снабжению городского населения.
Во весь рост встала задача подтянуть сельское хозяйство до уровня, обеспечивающего удовлетворение растущих потребностей страны в продовольствии и сырье.
Советское государство усилило работу в двух основных направлениях социалистической перестройки деревни: в области кооперирования крестьянства и технической реконструкции сельскохозяйственного производства.
Источник
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРИЗИС 1927/28
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КРИЗИС 1927/28. К 1927 в СССР в целом и Сибири в частн. были завершены ремонополизация загот. хлеб. рынка и переход к директив. механизму ценообразования. Хлебозаготовки 1926/27 прошли успешно. У сов. рук-ва в связи с этим создалось впечатление полной и окончат. победы над «рыночной стихией». Гарантией повторения успеха в 1927/28 в Сибири служило продолжавшееся увеличение посев. площ. Не вызывало опасений и то, что за счет снижения урожайности осенью в регионе собрали меньший, чем в 1926, объем зерна. По мнению экспертов, это снижение вполне компенсировалось оставшимися нереализованными в предыдущем году запасами хлеба в крест. хоз-вах. Оптимистич. прогнозы подтверждались ходом хлебозаготовок в кон. лета – нач. осени 1927.
Однако в окт. 1927 ситуация на хлеб. рынке региона резко ухудшилась. Объем закупок по сравнению с окт. 1926 снизился на 22 %. В нояб. хлеба заготовили в 2,5 раза меньше, чем в том же месяце 1926. Дек. дал 46 %-ное снижение от уровня прошлого года. На 1 янв. 1928 объем хлебозакупа по Сибирскому кр. достиг 25,2 млн пуд., что составляло 66,5 % от календар. задания. В то же время, по мнению экспертов, хлеба в деревне было много. Но крестьяне не желали его продавать в объемах, необходимых гос-ву. Они задерживали реализацию, увеличивая запасы и внутрихоз. потребление зерна.
Резкому снижению объемов реализации зерна способствовал ряд конъюнктур. особенностей 1927/28. Осенью 1927 в условиях дефицита сырья на перерабат. предприятиях заготовители техн. культур повысили на них цены. Это привело к существ. росту объемов их реализации. Зимой активизировалась сдача крестьянами мясопродуктов и животновод. сырья. Неурожай трав создал угрозу бескормицы, и сел. жители усилили забой скота. Однако спрос вырос еще больше. В 1927/28 Сибирь впервые включили в общесоюз. план мясозакупа, и краевые заготовители, доп. получив значит. средства, увеличили закуп. цены, до того державшиеся на относительно низком уровне. Выгодной для крестьян являлась и продажа кожсырья. Дефицит пром. кожтоваров вызвал его актив. скупку владельцами кустар. и полукустар. кожзаводов, к-рые также увеличили закуп. цены.
В результате деревня получала денег столько, что нужда в продаже хлеба у крестьян практически отсутствовала. Размеры сельскохозяйственного налога по Сибирскому кр. в 1927/28 неск. снизились. Сел. жители не могли истратить даже те деньги, к-рые они получали за счет реализации с.-х. сырья и мяса. Снабжение деревни пром. товарами ухудшилось. При этом непропорционально большая доля поступавших в регион пром. товаров оседала в городе. Невозможность купить на имеющиеся деньги потреб. товары создавала у крестьян убежденность в неустойчивости червонца и необходимости увеличения натур. запасов, в первую очередь зерна. Доп. стимулом для этого служили слухи о скором начале войны.
На ход хлебозаготовок отрицательно влияли и низкие, не соотв. конъюнктуре гос. закуп. цены. Единственно возможным стимулом активизации предложения хлеба могло стать только повышение цен. Однако, против всякой логики, загот. цены на зерно в Сибири не только не увеличились, но имели тенденцию к снижению. Цены вольного рынка, напротив, росли. Несмотря на изгнание с рынка круп. частн. торговцев, покупателей на крест. хлеб все равно хватало. Ими были мелкие частн. скупщики, удовлетворявшие мест. спрос. Из-за перебоев в централизов. снабжении муку и зерно непосредственно на базарах в больших кол-вах закупали гор. жители.
Планы централизов. хлебозакупа не выполнялись не только в Сибири, но и в большинстве др. производящих регионов страны. В дек. гос. хлеб. резервы были практически исчерпаны. На XV съезде ВКП(б) положение, сложившееся в сфере хлебозаготовок, назвали кризисом. Требовалось принимать срочные меры по его преодолению. Возможность повышения цен категорически отвергалась. Закупки за границей зерна и пром. товаров требовали времени и к тому же затрудняли выполнение индустр. программы, к-рой руководители сов. гос-ва поступаться не желали. В этих условиях усилился адм. нажим на мест. власти. 6 янв. 1928 руководителей мест. органов предупредили, что если они не добьются в кратчайшие сроки перелома в хлебозаготовках, то будут сняты с занимаемых должностей.
Реакцией на угрозу в Сибири стал поиск виновных в продолжавшихся загот. трудностях. Вначале ими объявили работников гос. и кооп. загот. орг-ций. Мн. из них уволили и привлекли к судеб. ответственности. 13 янв. 1928 из крайпрокуратуры и Полномочного представительства ОГПУ по Сибкраю на места разослали директиву об уголов. преследовании мелких скупщиков зерна и владельцев мельниц. Применение репрессий против крест-ва сдерживалось опасениями ряда мест. руководителей вызвать массовое недовольство деревни. Эти опасения дезавуировал И.В. Сталин в циркуляр. телеграмме от 14 янв. Мнение о том, «что нельзя трогать скупщика и кулака, т. к. это может отпугнуть от нас середняка», определялось в ней как «самая гнилая мысль из всех гнилых мыслей, имеющихся в головах некоторых коммунистов». Исходя из директив. указаний, бюро Сибкрайкома ВКП(б) 17 янв. поручило органам ОГПУ начать аресты и привлечение к уголов. ответственности за спекуляцию (т. е. по ст. 107 УК РСФСР) кулаков, «располагающих большими запасами хлеба». Вскоре в Сибирь приехал Сталин. Он поддержал краевое рук-во, указав лишь на то, что производить аресты нужно не по линии ОГПУ, а в «законном порядке» от имени прокуратуры (см. Сталина И.В. поездка в Сибирь 1928).
Ген. секр. ЦК ВКП(б), пробыв в регионе ок. 3 недель, в своих выступлениях осн. причиной загот. кризиса назвал позицию кулаков, утверждая, что они обладают значит. запасами хлеба и не желают его сдавать, ожидая повышения цен. Действительно, зажит. слои сиб. деревни реализовали к этому времени лишь небольшую часть запасов зерна. Но подоб. поведение являлось для них обычным. Зажит. крестьяне почти всегда продавали осн. массу своего хлеба в кон. зимы – нач. весны. Осенью и в нач. зимы зерно вывозили на рынок бедняки и середняки. Беднота, на долю к-рой, согласно офиц. статистике, приходилась незначит. часть товар. запасов, влиять на ход заготовок не могла. Загот. кризис стал следствием отказа от реализации хлеба прежде всего ср. крест-ва, в чьих хоз-вах в нач. кампании сосредоточивалось до 75 % товар. зерна. И «хлебная стачка» осени – нач. зимы 1927/28 была не столько «кулацкой», сколько середняцкой. Власти, и центр., и мест., это прекрасно понимали. Репрессии против кулаков были направлены на то, чтобы заставить осн. держателей хлеба – середняков – ускорить его реализацию.
Мест. органы проводили конфискацию хлеба не только по ст. 107, но и без судеб. решений, закрывали базары, запрещали внутридеревен. торговлю с.-х. продукцией, устраивали массовые обыски с целью выявления излишков. Чтобы расколоть крест-во, власти разжигали в деревне соц. конфликты. Четверть конфискованного «кулацкого» хлеба в форме прод. и семен. ссуд передавалась бедноте. Активизировалась пропагандистская обработка беднейшего крест-ва. Усилился финанс. нажим на деревню. Проводилась кампания по срочному погашению задолженности сел. жителей по кредитам, страховым платежам, оплате за землеустройство. На более раннее время сдвигались обязат. сроки сдачи с.-х. налога. В директив. порядке снижались закуп. цены на мясо, животновод. сырье, техн. культуры.
Следствием применения комплекса репрес. и адм. мер стало временное преодоление кризиса. Крестьяне существенно увеличили продажу хлеба гос. и кооп. заготовителям. В февр.–марте 1928 в Сибири хлеба заготовили почти в 2 раза больше, чем за тот же период 1927. Успешно в февр.–марте проходили заготовки и в др. регионах страны. Это позволило сов. рук-ву на состоявшемся в нач. апр. объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) заявить об отказе от чрезвыч. методов ведения хлебозаготовок.
Однако в апр. 1928 темпы заготовок резко снизились. Падение объемов хлебозакупа объяснялось практическим исчерпанием в ходе февр.-март. заготовок товар. запасов зерна у крестьян. Сверхнорматив. вывоз зерна из Сибири в этих условиях вызвал кризис снабжения городов региона. Хлеб. цены на гор. базарах с февр. по май увеличились почти в 2 раза. Но хлеба не хватало и в самой деревне. Особенно страдала от его недостатка беднота. Следствием нехватки хлеба стали прокатившиеся по Сибири открытые выступления протеста сел. жителей, осн. участниками к-рых стали крестьянки (т. н. бабьи волынки) (см. Крестьянское движение).
Резкое сокращение заготовок произошло и в др. хлебопроизводящих р-нах страны. В очередной раз обострилось снабжение потребляющих центров. В зерне для пересева погибших озимых нуждались Сев. Кавказ и Украина. В создавшихся условиях рук-во страны вернулось к чрезвыч. мерам. Возобновилось применение ст. 107. На местах в ход снова пошли продразверсточные методы заготовок: подворный обход, проверка амбаров, повальные обыски, обложение заданиями по хлебосдаче всех хоз-в. Крестьян заставляли сдавать страховые и даже необходимые прод. запасы. Обострение полит. положения в деревне и внутрипарт. борьба стали причиной принятия на июльском (1928) Пленуме ЦК ВКП(б) решения о свертывании чрезвыч. методов изъятия зерна.
Лит.: Ильиных В.А. Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921–1928 гг.). Новосибирск, 2005; Хлебозаготовительная политика советского государства в Сибири в конце 1920-х гг. Новосибирск, 2006.
Источник
Хлебозаготовительный кризис 1927/28 // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)
Вы здесь
Новости ogirk.ru
Однако в октябре 1927 ситуация на хлебном рынке региона резко ухудшилась. Объем закупок по сравнению с октябрем 1926 снизился на 22 %. В ноябре хлеба заготовили в 2,5 раза меньше, чем в том же месяце 1926. Декабрь дал 46 %-ное снижение от уровня прошлого года. На 1 января 1928 объем хлебозакупа по Сибирскому краю достиг 25,2 млн пудов, что составляло 66,5 % от календарного задания. В то же время, по мнению экспертов, хлеба в деревне было много. Но крестьяне не желали его продавать в объемах, необходимых государству. Они задерживали реализацию, увеличивая запасы и внутрихозяйственное потребление зерна.
Резкому снижению объемов реализации зерна способствовал ряд конъюнктурных особенностей 1927/28. Осенью 1927 в условиях дефицита сырья на перерабатывающих предприятиях заготовители технических культур повысили на них цены. Это привело к существенному росту объемов их реализации. Зимой активизировалась сдача крестьянами мясопродуктов и животноводческого сырья. Неурожай трав создал угрозу бескормицы, и сельские жители усилили забой скота. Однако спрос вырос еще больше. В 1927/28 Сибирь впервые включили в общесоюзный план мясозакупа, и краевые заготовители, дополнительно получив значительные средства, увеличили закупочные цены, до того державшиеся на относительно низком уровне. Выгодной для крестьян являлась и продажа кожсырья. Дефицит промышленных кожтоваров вызвал его активную скупку владельцами кустарных и полукустарных кожзаводов, которые также увеличили закупочные цены.
В результате деревня получала денег столько, что нужда в продаже хлеба у крестьян практически отсутствовала. Размеры сельскохозяйственного налога по Сибирскому краю в 1927/28 несколько снизились. Сельские жители не могли истратить даже те деньги, которые они получали за счет реализации сельскохозяйственного сырья и мяса. Снабжение деревни промышленными товарами ухудшилось. При этом непропорционально большая доля поступавших в регион промышленных товаров оседала в городе. Невозможность купить на имеющиеся деньги потребительские товары создавала у крестьян убежденность в неустойчивости червонца и необходимости увеличения натуральных запасов, в первую очередь зерна. Допустимым стимулом для этого служили слухи о скором начале войны.
На ход хлебозаготовок отрицательно влияли и низкие, не соответствующие конъюнктуре государственной закупочной цены. Единственно возможным стимулом активизации предложения хлеба могло стать только повышение цен. Однако, против всякой логики, заготовительные цены на зерно в Сибири не только не увеличились, но имели тенденцию к снижению. Цены вольного рынка, напротив, росли. Несмотря на изгнание с рынка крупных частных торговцев, покупателей на крестьянский хлеб все равно хватало. Ими были мелкие частные скупщики, удовлетворявшие местный спрос. Из-за перебоев в централизованном снабжении муку и зерно непосредственно на базарах в больших количествах закупали городские жители.
Планы централизованного хлебозакупа не выполнялись не только в Сибири, но и в большинстве других производящих регионов страны. В декабре государственные хлебные резервы были практически исчерпаны. На XV съезде ВКП(б) положение, сложившееся в сфере хлебозаготовок, назвали кризисом. Требовалось принимать срочные меры по его преодолению. Возможность повышения цен категорически отвергалась. Закупки за границей зерна и промышленных товаров требовали времени и к тому же затрудняли выполнение индустриальной программы, которой руководители советского государства поступаться не желали. В этих условиях усилился административный нажим на местные власти. 6 января 1928 руководителей местных органов предупредили, что если они не добьются в кратчайшие сроки перелома в хлебозаготовках, то будут сняты с занимаемых должностей.
Реакцией на угрозу в Сибири стал поиск виновных в продолжавшихся заготовительных трудностях. Вначале ими объявили работников государственных и кооперативных заготовительных организаций. Многие из них уволили и привлекли к судебной ответственности.13 января 1928 из крайпрокуратуры и Полномочного представительства ОГПУ по Сибкраю на места разослали директиву об уголовном преследовании мелких скупщиков зерна и владельцев мельниц. Применение репрессий против крестьянства сдерживалось опасениями ряда местных руководителей вызвать массовое недовольство деревни. Эти опасения дезавуировал И.В. Сталин в циркулярной телеграмме от 14 января Мнение о том, «что нельзя трогать скупщика и кулака, т. к. это может отпугнуть от нас середняка», определялось в ней как «самая гнилая мысль из всех гнилых мыслей, имеющихся в головах некоторых коммунистов». Исходя из директивных указаний, бюро Сибкрайкома ВКП(б) 17 января поручило органам ОГПУ начать аресты и привлечение к уголовной ответственности за спекуляцию (т. е. по статье 107 УК РСФСР) кулаков, «располагающих большими запасами хлеба». Вскоре в Сибирь приехал Сталин. Он поддержал краевое руководство, указав лишь на то, что производить аресты нужно не по линии ОГПУ, а в «законном порядке» от имени прокуратуры (см. Сталина И.В. поездка в Сибирь 1928 ).
Местные органы проводили конфискацию хлеба не только по статье 107, но и без судебных решений, закрывали базары, запрещали внутридеревенскую торговлю сельскохозяйственной продукцией, устраивали массовые обыски с целью выявления излишков. Чтобы расколоть крестьянство, власти разжигали в деревне социальные конфликты. Четверть конфискованного «кулацкого» хлеба в форме продовольственных и семен. ссуд передавалась бедноте. Активизировалась пропагандистская обработка беднейшего крестьянства. Усилился финансовый нажим на деревню. Проводилась кампания по срочному погашению задолженности сельских жителей по кредитам, страховым платежам, оплате за землеустройство. На более раннее время сдвигались обязательные сроки сдачи сельскохозяйственного налога. В директивном порядке снижались закупочные цены на мясо, животноводческое сырье, технические культуры.
Следствием применения комплекса репрессивных и административных мер стало временное преодоление кризиса. Крестьяне существенно увеличили продажу хлеба государственным и кооперативным заготовителям. В феврале-марте 1928 в Сибири хлеба заготовили почти в 2 раза больше, чем за тот же период 1927. Успешно в феврале-марте проходили заготовки и в других регионах страны. Это позволило советскому руководству на состоявшемся в начале апреля объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) заявить об отказе от чрезвычайных методов ведения хлебозаготовок.
Однако в апреле 1928 темпы заготовок резко снизились. Падение объемов хлебозакупа объяснялось практическим исчерпанием в ходе февральских-мартовских заготовок товарных запасов зерна у крестьян. Сверхнормативный вывоз зерна из Сибири в этих условиях вызвал кризис снабжения городов региона. Хлебные цены на городских базарах с февраля по май увеличились почти в 2 раза. Но хлеба не хватало и в самой деревне. Особенно страдала от его недостатка беднота. Следствием нехватки хлеба стали прокатившиеся по Сибири открытые выступления протеста сельских жителей, основными участниками которых стали крестьянки (так называемые бабьи волынки) (см. Крестьянское движение).
Резкое сокращение заготовок произошло и в других хлебопроизводящих районах страны. В очередной раз обострилось снабжение потребляющих центров. В зерне для пересева погибших озимых нуждались Северный Кавказ и Украина. В создавшихся условиях руководство страны вернулось к чрезвычайным мерам. Возобновилось применение статьи 107. На местах в ход снова пошли продразверсточные методы заготовок: подворный обход, проверка амбаров, повальные обыски, обложение заданиями по хлебосдаче всех хозяйств. Крестьян заставляли сдавать страховые и даже необходимые продовольственные запасы. Обострение политического положения в деревне и внутрипартийная борьба стали причиной принятия на июльском (1928) Пленуме ЦК ВКП(б) решения о свертывании чрезвычайных методов изъятия зерна.
Лит.: Ильиных В.А. Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921-1928 гг.). Новосибирск, 2005; Хлебозаготовительная политика советского государства в Сибири в конце 1920-х гг. Новосибирск, 2006.
Источник
Хлеб поставлялся
двумя путями:
-
через продналог
-
«коммерческий
хлеб» — крестьянин продавал сам.
Крестьянин в 20-е
гг. мог продать хлеб только государству,
оно устанавливало собственные цены
(довольно низкие), и крестьянину была
невыгодна такая продажа, поэтому в
города хлеб поступал, в основном, только
за счет продналога.
В 1928 году ввели
карточное распределение хлеба – это и
сеть кризис хлебозаготовок.
В 1927-28 гг. Сталин
начал изучать работы Василия Немчинова,
который убедительно показывал, что даже
в Российской империи 70 % производимого
хлеба было нетоварным (крестьянин не
продавал его, а потреблял сам). А 30 %
товарного хлеба производилось в огромных
помещичьих владениях.
Таким образом,
Сталин решил, что в этих условиях при
существующей ценовой политике крестьянин
город не накормит. А удовлетворение
потребности горожан в хлебе было
необходимым условием для укрепления
обороноспособности страны.
В нижегородской
губернии только 1 % крестьян участвовали
в колхозах
В 1925 году – 3-5 %
крестьян
К 1929 году – 6 %
крестьян (это в 2 раза меньше, чем по
стране, что объясняется почвами и
климатическими условиями Нижегородской
губернии).
В 1927 г. XV съезд
партии принял решение о коллективизации.
Главную роль в его принятии этого решения
сыграл Сталин, который и несет всю
ответственность.
Кулаки неизбежно
должны были сопротивляться коллективизации.
В Нижегородской губернии это 5-7 %
населения. Кулак – это тот человек,
который сам и предки его в течение многих
поколений не видели ничего, кроме работы.
Кулак – «спит на кулаке, чтобы не проспать
зарю». И лишним подтверждением такого
положения дел является фольклор –
русские народные сказки со своими
«сапогами-скороходами»,
«скатертями-самобранками» служили
своеобразным утешением для входящего
в трудовую деятельность молодого
поколения.
Да, кулак хотел
работать, но работать только на себя.
Кулак – единоличник, и поэтому он уже
не встраивался в структуру существующей
системы, хотя ничего плохого он и не
делал. Поэтому все мероприятия, которые
были применены к кулакам и их семьям
вызывают жалость. Коллективизация
уничтожила хозяина, превратила крестьянина
в сельскохозяйственного рабочего.
Крестьянин не встраивал себя в систему
интересов государства. Советское
государство и Сталин решили пожертвовать
этими 5-7 % крестьян в условиях экономического
и внешнеполитического кризиса.
В Нижнем Новгороде
коллективизацию начали сразу после
постановления ЦК в 1929 г. Отвечал за это
I секретарь Нижегородского райкома
РКП(б) Андрей Александрович Жданов, он
встречался со Сталиным. Сталин понимал,
что Нижегородская губерния являлась
более промышленным краем, нежели
сельскохозяйственным и поэтому обращал
особое внимание на коллективизацию в
Нижегородской губернии.
Коллективизация
начала проводится методами, которые не
вызывали симпатии крестьян.
Изначально это
была агитация: в беседах объясняли
преимущества нового строя. Однако идея
обобществления имущества, не находила
отклика в крестьянской среде. Беседы
сменялись уговорами и шантажом, и человек
вступал в колхоз. Правда, он мог из него
выйти уже к вечеру того же дня.
В 1929 г. методы
претерпели некоторые изменения. Теперь
коллективизация проводилась в форме
социалистического соревнования,
сопровождавшимся раскулачиванием –
«Кто быстрее всех проведет коллективизацию».
В рамках Нижегородского
края в качестве экспериментального
участка была выделена Вотская автономная
область. Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б)
принял решение о сплошной коллективизации
за 3 года. В Вотской АО решили закончить
этот процесс за полтора года, а потом –
к весне 1930 г.
Вотская автономная
область вызвала на соревнование Чувашскую
АССР. Было решено провести коллективизацию
к концу 1930 г., то есть к десятилетию
Чувашской АССР.
Было принято
решение об обобществлении крупного
рогатого скота. В результате появились
случаи, когда крестьяне резали скот,
чтобы не сдавать его.
Таким образом, на
20 января 1930 г. было коллективизировано
7,3 %
на 1 февраля 1930 г.
– 12 %
на 20 февраля 1930 г.
– 44,8 %
к 1 марта 1930 г. –
48 % крестьянских дворов
Этот быстрый рост
процентов коллективизированных хозяйств
был назван «небывало зверскими темпами
коллективизации».
Методы привлечения
крестьян в колхозы носили не только
экономический, но и политический
характер. Если крестьянин не идет в
колхоз, значит он против Советской
власти. А это контрреволюционное
преступление – 5-8 лет лишения свободы,
вплоть до расстрела по ст. 58 УК РСФСР.
К началу 30-х гг.
прошло всего 13 лет после революции, даже
поколение не сменилось, и в сознании
части населения еще не появилась
уверенность, что Советская власть –
это всерьез и надолго. Даже в начале II
мировой войны некоторые крестьяне
встретят немцев с распростертыми
объятьями.
Процесс раскулачивания,
таким образом, свелся, в основном, к
репрессивным мерам.
30 января 1930 г.
политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление
«О мероприятиях по ликвидации кулацких
хозяйств в районах сплошной коллективизации».
Это постановление отменяло НЭПовское
законодательство об аренде земли и
найме рабочей силы.
В каждый район
были даны конкретные указания о применении
мер воздействия к кулацким хозяйствам.
Было принято постановление о признаках
кулацких хозяйств – таковыми признавались
все хозяйства, которые арендовали землю,
использовали сельскохозяйственные
орудия, имели наемную рабочую силу. Было
определено конкретное количество
кулаков.
Кулаки были поделены
на 3 категории:
-
контрреволюционный
актив – эти крестьяне высказывали
нежелание вступать в колхозы. В
нижегородской губернии это 5 000 семей.
Они должны быть арестованы и высланы
в Северные районы края (Вятку) -
10 000 кулацких
семей, которым вменялась «разверстка»,
если они не вступали в колхоз. Им давалось
«твердое задание» сдать государству
определенное количество хлеба, мяса.
Однако задание это было невыполнимо и
крестьянам приходилось вступать в
колхоз. -
несознательные
крестьяне – находились в состоянии
«балансирования». Среди них предполагалось
проводить агитацию.
Эти цифры не были
случайными – четко работало статистическое
бюро, шел полный учет всего населения.
Однако если есть директива, в которой
указаны конкретные даты и цифры, значит
необходимо писать отчет. В эти 5 000 семей
необходимо кого-то записать, поэтому
реализация директив на практике была
очень трагична. Зачастую мотивом
раскулачивания в деревне служила личная
месть.
В декабре 1929 –
весной 1930 гг. краевое руководство всерьез
обеспокоилось потенциально возможным
крестьянским выступлением. Весна –
самое голодное время года.
«Как
Мамай прошел»
— сказал Жданов о раскулачивании.
В марте-апреле
1930 г. в некоторых районах и уездах были
отмечены крестьянские выступления, под
лозунгами: «Долой колхозы!» или «Да
здравствуют колхозы без коммунистов!».
Органы ОГПУ всерьез
озабочены этим, отмечалось, что проводимое
раскулачивание сопровождалось
«злоупотреблениями». Выходит статья
Сталина «Головокружение от успехов».
В результате отмечается некоторое
послабление в методах коллективизации
– больше агитации, меньше насилия. В
апреле 1930 г. Жданов призвал к расстрелу
«перегибщиков». Никто расстрелян не
был, но 160 человек были уволены с работы.
Осенью 1930 г. началась
вторая волна коллективизации. Жданов:
«Скверно обстоит дело с выявлением
кулака».
Поступают новые
директивы ЦК о выселении крестьянских
семей — 1 500 семей выселено в Синегорский
район, 5 200 семей выселено в Казахстан.
Для реализации директив в Нижнем
Новгороде была создана «Тройка»:
секретарь обкома Столяр, полномочный
представитель ОГПУ, зам председателя
райисполкома Голованов.
Вторая волна
раскулачивания была встречена пассивным
сопротивлением. Списки раскулачиваемых
составлялись на Советах. Иногда жители
заявляли: «Кулаков у нас нет. Мы все
равны». Раскулачиваемые скрывались,
разводились с женами, чтобы те не
подверглись выселению. Молодежь
отказывалась от своих отцов – чтобы
остаться.
«Настроение
выселяемых ничего не выражает, молчат»
— говорилось в некоторых отчетах.
В первой половине
1931 года все формы антиколхозных
выступлений в Нижегородском крае были
направлены против каждого шестого
колхоза, в Чувашской АССР – против
каждого третьего колхоза:
-
покушения на
деревенских активистов(45,2%) -
поджоги (13,9%)
-
отравление скота
(3,7 %) -
порча
сельскохозяйственных машин (15,7 %)
В августе 1931 года
было принято решение о прекращении
выселения кулацких семей, т.к. задача
по выселению контрреволюционного актива
была, в основном, уже решена.
С 1931 года в методах
коллективизации больше внимания стало
уделяться идеологической работе
(театральные постановки и т.п.). На
сознание населения большое влияние
оказало появление трактора, открывшего
новые возможности по обработке полей.
Личность тракториста – олицетворение
всего хорошего и нового в колхозной
жизни.
В 1933 году 50 %
крестьянских хозяйств находились в
колхозах, в 1937 г. – 90 %.
В 1933 году в крае
было 54 машинно-тракторных станции, и 2
600 тракторов.
Результаты:
«-» понизилась
степень хозяйского отношения к земле,
крестьянин из хозяина превратился в
сельскохозяйственного рабочего,
снизилась мотивация труда
«+» государство
добилось цели, хотя хлебная проблема
не была снята, государство решило задачу
производства и распределения хлеба
Были заложены
основы агропромышленного комплекса,
Сталин задумывался о том, чтобы все
работали на всех.
Лекция 13.
Горьковская
область в годы Великой отечественной
войны
А) Военная
мобилизация в городе и области.
С 23 июня в СССР и
в Горьковской области начинается
мобилизация на фронт. Первоначально
мобилизации подлежали военнообязанные
1905-1918 гг. рождения. В Горьком организовано
10 призывных пунктов (по количеству
районов), также были организованы пункты
во всех районах области, через которые
ежедневно проходило около 1000 человек.
По мере ухудшения обстановки на фронте
расширялись параметры призываемых
категорий. В августе – мобилизация
1890-1904 гг. рождения.
К 1 августа 1941 г.
из Горьковской области было мобилизовано
75 292 человека. Это больше, чем было
запланировано: на фронт уходили большое
количество добровольцев. В первые два
месяца войны 5 486 заявлений о добровольном
вступлении в ряды советской армии в
Горьком, и более 10 000 заявлений по области.
Это объясняется изменившейся психологией
граждан, появилось поколение выросшее
только при советской власти, влияние
пропаганды – все это привело к
возникновению советского патриотизма.
Но не все желали
идти на фронт. Война – это кризисная
ситуация, которая обостряет все
человеческие качества. Трусы скрывались
в лесах, подпольях, некоторые даже в
деревенских печах. Их разыскивали органы
НКВД. На июнь-июль 1941 года 24 призывника
не явились на призывные пункты по
неуважительным причинам.
В 1942 году в
Горьковской области медицинской
комиссией было переосвидетельствовано
и отправлено на фронт 14 118 человек в
возрасте до 55 лет, 3 138 человек было
«разбронировано» (снято с заводов).
Летом 1942 года была
аннулирована отсрочка от призыва
комсомольским работникам. Призывались
студенты I и II курсов вузов. Старшекурсникам
давали возможность доучиться.
С июня 1941 года по
декабрь 1943 года из Горьковской области
было направлено 619 618 человек.
Последний ординарный
призыв в 1944 году – призывались лица
1927 г.р.
Таким образом, из
Горьковской области было мобилизовано
и отправлено на фронт 822 000 человек.
Спецмобилизации
по линии ВКП(б) и комсомола:
2 685 человек – в
воздушно-десантные войска
1 655 человек – в
лыжные части
1 235 человек – на
курсы радиоспециалистов
1 110 человек – в
аэроклуб
179 человек на
политработу в действующие части.
Политработник должен был первым бросаться
в атаку.
В июле 1941 г. из тех,
кто не попал по возрастным или медицинским
показателям под призыв (в возрасте от
17 до 50 лет), сформировано народное
ополчение. К 1 августа 1941 г. в Горьком в
народное ополчение записалось 61 100
человек, в Дзержинские 9 553 человека.
Всего по Горьковской области в ополчение
вступило более 100 000 человек.
24 июня 1941 года было
принято постановление СНК о борьбе с
парашютными десантами, согласно которому
стали формироваться истребительные
батальоны из лиц, не подлежащих
первоочередному призыву. Всего в
Горьковской области сформировано 74
батальона общей численностью 12 604
человека. Истребительные батальоны
занимались охраной хозяйственных
объектов, путей сообщения, электросетей,
борьбой с диверсантами.
С июля по октябрь
1941 г. за уклонение от военной службы в
Горьковской области было осуждено 150
человек. В 1942 г. Горьковский военный
трибунал за аналогичные преступления
осудил 1 327 человек. Всего с июня 1941 по
ноябрь 1943 гг. в Горьковской области (без
Горького) было задержано 2 451 человек
уклонявшихся от призыва и 2 884 человек
нарушителей воинского учета.
В 1942 году было
осуждено 4 207 человек, дезертировавших
из армии. В I полугодии 1943 г. – 1 446 человек.
Всего вместе осуждено около 12 000 человек,
или 1,5 % от всего количества мобилизованный
в Красную армию.
В 1942 году было
приговорено к высшей мере наказания из
количества осужденных дезертиров 8 % и
0,5 % из уклонявшихся от мобилизации.
Остальные получили по 10 лет лишения
свободы, как правило – строгого режима.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #