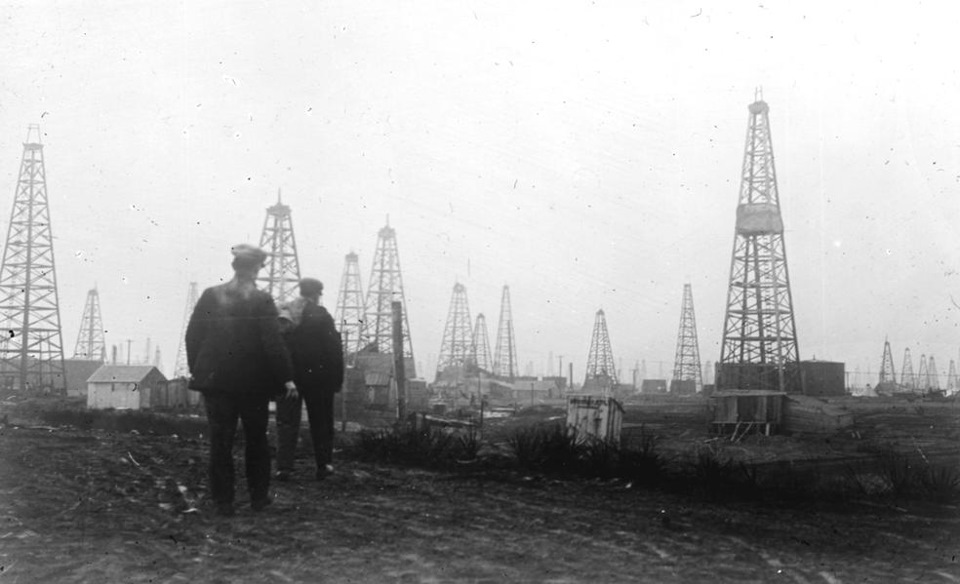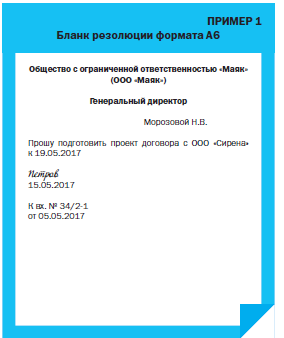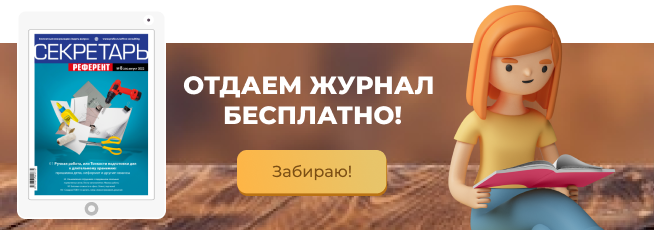Нефтяной бизнес Нобелей начался со случайной покупки одним из братьев нескольких перспективных участков и маленького перегонного завода в Баку. Но дело развивалось так успешно, что спустя 17 лет Нобели вынудили самого Рокфеллера признать их равной стороной и начать переговоры о разделе нефтяного рынка в масштабах всей планеты.
Рождение крупнейшей нефтяной корпорации дореволюционной России было случайным. Весной 1873 года из Петербурга на Кавказ отправился Роберт Нобель (на фото), один из представителей большого семейства российско-шведских предпринимателей. Фирма братьев Нобель тогда получила от правительства крупный заказ на полмиллиона винтовок, и поездка на Кавказ требовалась, чтобы закупить ореховую древесину для будущих прикладов. Но, оказавшись в Баку, Роберт Нобель не смог устоять против «нефтяной лихорадки», вложив выделенные для покупки дерева 25 тысяч рублей в несколько перспективных участков и маленький перегонный завод.
Рискованное и во многом спонтанное вложение оказалось удачным. Уже в октябре 1876 года в Петербурге продали первые 300 бочек с керосином братьев Нобель. В 1878 году они построили первый в Баку большой нефтепровод и первый в мире настоящий танкер, получивший имя «Зороастр» и позволивший отказаться от неудобной транспортировки керосина в деревянных бочках.
Весной следующего, 1879 года, вложив в новое дело 3 миллиона рублей, братья Нобель учредили большое «Товарищество нефтяного производства». Помимо трех братьев Нобель одним из соучредителей стал барон Бильдеринг, генерал артиллерии и крупнейший оружейник России того времени, обеспечивший шведскому семейству надежные связи на самых верхах российской бюрократии.
Технические новшества, коммерческая хватка и столичные связи позволили «Товариществу нефтяного производства братьев Нобель» быстро завоевать российский рынок. «Задачей товарищества было вытеснить американский керосин из России, а затем начать вывоз керосина за границу», – так высказался руководитель компании Людвиг Нобель в апреле 1883 года, выступая на собрании пайщиков товарищества в Санкт-Петербурге. Спустя всего два года вышки братьев Нобель дали четверть всей нефтедобычи в России, а их перегонные заводы выпустили 53% всего производимого в стране керосина, снизив его стоимость почти в 20 раз. «Нобелевская» продукция не только полностью вытеснила американский керосин с российского рынка, но и успешно вышла на международный рынок, где ранее так же безраздельно господствовал керосин из Америки от Standard Oil знаменитого Рокфеллера.
Всего за два года Нобели и другие российские экспортеры керосина отняли у Рокфеллера почти треть рынка в Азии и нацелились на Европу. Статистика российского нефтеэкспорта тех лет поражает – начавшись в 1881 году со скромных двух тысяч тонн, за семь лет он увеличился в 264 раза! И в сентябре 1886 года в Петербург для переговоров с братьями Нобель прибыл американец Уильям Герберт Либби, главный представитель Standard Oil в Западной Европе.
По слухам, просочившимся в американскую прессу, Рокфеллер предложил Нобелям фантастическую по тем временам сумму 10 миллионов долларов наличными, если они согласятся подчинить ему их нефтяной бизнес. Но шведские братья отказали американцу – экспорт керосина из России в богатейшие страны Западной Европы открывал слишком заманчивые рынки. Например, в следующем, 1887 году первый танкер с нефтепродуктами братьев Нобель пришел в Британию. И «русский вопрос» (официальный оборот из внутренней переписки Standard Oil) сразу стал главным в политике американской монополии, заставив Рокфеллера резко снизить оптовые цены продаваемого в Европу керосина.
Стремясь конкурировать с американцами, Нобели вышли к самым вершинам государственной политики. В 1889 году бакинские заводы «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» лично посетил царь Александр III. Распив с нефтепромышленниками бутылку шампанского, монарх пообещал им дипломатическую поддержку в Западной Европе. Уже в следующем, 1890 году с подачи царя, заручившись рекомендацией самого Бисмарка, братья Нобель совместно с Deutsche Ваnk учредили «Немецко-русское общество импорта нефти», сразу отняв у американских монополистов десятую часть германского рынка.
Первый раунд «керосиновой войны» остался за Нобелями. Братья вынудили могущественного Рокфеллера признать их равной стороной и с 1890 года начать переговоры о разделе нефтяного рынка в масштабах всей планеты.
Фильм третий
Нефть — сегодня это незаменимый источник энергии. Из-за нее разгораются войны. От нее зависят судьбы целых народов. На нефти держится вся мировая экономика.
Во второй половине XIX столетия значение нефти было еще невелико. Из нефти производили только керосин, который испоьзовался для освещения. Однако потребность в керосине стремительно возрастала и это толкало коммерсантов в бой за нефтяные источники.
России принадлежало одно из богатейших месторождений. Оно располагалось на Апшеронсом полуострове, территории бывшего Бакинского ханства. В 1806 году в страхе перед иранским нашествием, оно добровольно присоединилось к России.
Через полвека этот суровый край стал центром небывалой деловой активности. Здесь развернулось острейшее экономическое соперничество.
БИТВА НЕФТЯНЫХ ВЕЛИКАНОВ
На Руси полезные свойства нефти были известны давно. Еще в X веке торговые люди ее из далекого княжества Тьму-Таракань расположенного на Таманском полуострове и в низовьях реки Кубани. Там нефть выходила на поверхность земли, образуя нефтяные озера. Нефть использовали как лекарство, как боевое зажигетельное вещество и как самзочный материал.
При Иване Грозном Русь торговала нефтью с Англией. В списках XVI века сохранилась запись о том, что королева Елизавета предложила русскому царю поставлять на Альбион нефть.
Первое в России нефтяное производство было организовано в середине XVIII столетия. Нефтр в районе реки Ухты нашел уроженец Архангело-Новгородской губернии Федор Придунов. Имя этого человек до сих пор не дает покоя историкам. Одни утверждают, что Придунов занимался сбором нефти с поверхности воды. Другие, что он построил первый в России перегонный куб. Именно на это указывает архивная запись о его расходах на уголья. Уголь мог быть использован только для равномерного обгрева нефте-пергонного куба. Этот спор носит принципилальный характер. Если Придунов перерабатывал нефть, день рождения российской нефте-перерабатывающей отрасли следует отодвинуть в глубь истории более чем на столетие.
Первый в России нефтяной фонтан в 1866 году получил отставной гвардии-полковник Ардалеон Новосильцев.
Это был человек огромного мужества и огромной энергии. Он прошел Кавказскую войну и после ее окончания занялся нефтяным промыслом.
В 1863 году Новосильцев добился права на поиск и добычу нефти на землях Кубанского казачьего войска. Силами русских инженеров он пробурил несколько скважин и получил нефтяной фонтан, который дал около 100 тысяч пудов нефти. После смерти Новосильцева его наследие оказалось в руках американских, а затем фрназуских предпринимателей. И они, сочетая высокомерие с профессиональным невежеством довели нефтяное дело на Кубана до полного растройства.
Во второй половине XIX столетия взгляды пионеров-нефтянников устремились на Апшерон. В этом далеком краю в былые годы стоило выкопать неглубокий колодец и он заполнялся черной маслянистой жидкостью. Ее можно было черпать ведрами. Во многих местах нефть просачивалась на поверхность. Факлелы самовозгоревшихся газов привлекали в эти места огнепоклонников. Последователи Зороастра сооружали здесь свои храмы. Их развалины можно встретить и сегодня. Впервые промышленное производство керосина развернул на Апшероне знаменитый русский предприниматель Василий Кокарев.
Эмин Мамедли, специалист по истории нефтяного дела в России: «Кокарев был человеком редкого ума. Вот представьте себе — человек родился в старообрядческой семье поморского сословия, согласия. И не получил никакого систематического образования. Он выучился читать по церковно-славянским книгам. И всю жизнь очень много читал, думал и пробовал.»
Василий Кокарев был личностью даровитой и хваткой. Благодаря этим качествам он стал крупнейшей фигурой отечественного бизнеса. В 19 лет, после смерти отца, Василий возглавил семейное дело — солеваренное производство. Соль добывалась методом бурения и Василий сам проектировал буровый установки. На промышленной выставке в Костроме ему пожал руку цесоревич Александр Николаевич. Наследника престола поразили, созданная молодым купцом модель буровой установки и его вдохновенный рассказ о добыче соли на Руси.
Однако первого крупного успеха Кокарев добился на ином поприще. В 27 лет он написал письмо министру финансов Федору Вронченко. Он предложил переустроить систему торговли вином. Удивленный министр вызвал молодого человека в столицу и предоставли ему в качестве эксперимента Орловскую губернию, которая задолжала казне огромную сумму.
Кокарев быстро погасил долг, после чего получил в свое ведение сразу 16 губерний.
Огромные деньги зарабатываемые на торговле вином, Кокарев вкладывал во все перспективные проекты. Одним из таких
было производство керосина.
В 1859 году Кокарев построил близ Баку завод по переработке кира — пропитанной нефтью земли.
«Когда в 1859 году были получены первые результаты Кокарев увидел, что это не очень выгодное дело. То есть они получали от общего объема переработанного сырья получали 15% фотогена — сырого керосина.»
Кокарев переоборудовал завод на переработку сырой нефти и вскоре чтобы повысить его эффективность пригласил в Баку приват-доцента химии Петербургского университета Дмитрия Менделеева. Гению российской науки тогда было 20 лет. Он был автором учебного пособия «Органическая химия». За этот выдающийся и своевременный труд его наградили чрезвычайно престижной в те годы Демидовской премией.
Менделеев провел на Апшероне 20 дней. Нефтяное дело настолько увлекло ученого, что он посвятил ему значительную часть своей жизни. Одним из первых в мире он заявил о возможности глубокой переработки нефти.
В 1863 году Менделлев предложил Кокареву связать нефтепроводами места добычи и переработки. Завести танкерный флот. И построить более мощный завод в районе Нижнего Новгорода. По идее Менделеева завод следовало максимально приблизить к потребителю — промышленным предприятиям России.
Кокарев в итоге принял лишь одно из предложений ученого.
Эмин Мамедли: «Он предложил Кокареву не рыть колодцы на внось приобретаемых нефтяных участках, а бурить их. Вот это последнее обстоятельство чрезвычайно заинтересовало Кокарева. Потому что Кокарев уже был с этим знаком еще с тех времен, когда он в семейном соляном деле занимался разработкой соляных буровых установок.»
По инициативе Кокарева была отменена система нефтяного откупа, которая душила нефтяной бизнес и обогощала тех кто обладал монопольным правом добычи нефти. Когда систему откупа упразднили на Апшероне начался деловой бум.
Вскоре Россия узнала имена новоиспеченных нефтяных королей: Бубонин, Тагиев, Шебаев, Леонозов, Асадулаев, Мухтаров, Гаджинский, Манташев, Гукасов.
Однако все они отошли на второй план, когда в нефтяной бизнес вошли Петербургские промышленники — братья Людвиг и Роберт Нобели.
История знаменитой семьи Нобелей наразрывно связан с Россией. В 1837 году шведский промышленник Иммануил Нобель бежал от кредиторов в Санкт-Петербург. Здесь его технические знания и деловой опыт оказались востребованы. По заказу русского Правительства он развернуб производство сухопутных и морских мин. Перед Крымской войной Иммануил Нобель заминировал походы к Кронштадту и Свеаборгу. Благодаря этому английские корабли не смогли подойти к Санкт-Петербургу.
За короткий срок шведский промышленник не только полностью раплатился с кредиторами, но и раширил свое дело. Вскоре он стал купцом Первой гильдии. Гордостью Иммануила Нобеля были его сыновья — Роберт, Людвиг, Альфред и Эмиль Оскар.
В конце 60-х годов глава семьи вместе с младшими сыновьями Альфредом и Эмилем Оскаром вернулись на родину. На заработанные в Росии деньги они построили нитроглицериновый завод и приступили к производству взрывчатых веществ.
Два других сына Нобеля — Людвиг и Роберт остались в России.
В 1862 году Людвиг оснвал в Санкт-Петербурге механический завод.
Ольга Кубицкая, специалист по истории экономики России:»Нобелю принадлежало преимущественное право в России на производство двигателей внутреннего сгорания. Патент на их изготовление они купили у знаменитого изобретателя этих двигателей Дизеля. Двигатели внутреннего сгорания производились до Первой мировой войны на Петербургском заводе Нобелей, который назывался Людвиг Нобель. Сейчас это завод Русский дизель.»
В нефтяной бизнес братья вошли в 1879 году создав знаменитое товарищество Нефтяного производства братьев Нобель, сокращенно Бранобель. Эта компания стала флагманом российского нефтяного бизнеса. Братья увидели, что выгоднее заниматься не добычей нефти и нефтепродуктов, а их транспортировкой. Фирма Бранобель впервые в России стала перевозить керосин в наливных судах создав целую флотилию из морских, речных пароходов, буксиров и барж.
Ольга Кубицкая:»Самим Нобелем принадлежал огромный нефтеналивной флот. И вот что интересно в 1879 году по заказу Нобелей в Стокгольме было построено первое в мире нефтеналивное судно. Оно носило название Зороастр конечно же не случайно. Потому что это было связано в Апшеронским полуостровом, потому что это было связано с отсатками храмов огнепоклонников, которые во множестве были разбросаны на Апшеронском полуострове.»
Нобели понимали специфику России и восхищались ее многоликостью, поэтому строя нефтеналивные суда они называли их в честь коренных российских народов — «Великоросс», «Малоросс», «Татарин», «Башкир», «Калмык». Нефтепродукты перевозились и по железным дорогам. Для этих целей завод Людвиг Нобель строил вагоны-цистерны. На пути от Баку до Санкт-Петербурга фирма соорудила многочисленные резервуары и склады для хранения мазута, керосина и смазочных масел.
Вскре заводы Нобеля стали производить нефтепродукты. Их высокое каечество было отмечено высшими наградами международных и всероссийских выставок. Сами, Людвиг и Роберт снискали славу выдающихся инженеров, которые постоянно совершенствовали процесс перегонки нефти.
Нобелей отличала предупредительное отношение к рабочим — для их семей строилось благоустроенное жилье, школы, больницы и спотрплощадки. А они сами становились пайщиками предприятий. Получить работу у Нобеля считалось огромным везением.
Динамитный король Альфред Нобель стал совладельцем фирмы своих старших братьев. Впоследствии его пай лег в основу учрежденных им премий. Сегодня как-то не принято вспоминать, что деньги в фонд Нобелевских премий долгое время приходили только из России. Альфред Нобель написал свое знаменитое завещание без консультаций с опытным юристами. Поэтому его последнюю волю дружно саботировали все производители динамита. И только из Санкт-Петербурга в премиальный фонд шел поток нефтяных рублей.
Примечательно и то, что сама идея знаменитой премии возникла в нашей стране. Первоначально Нобелевские премии вручались не в Швеции, а в России. Их учредил Роберт Нобель для поощерения русских ученых и инженеров. Альфред скопировал начинания своего старшего брата.
Первыми лауреатами Нобелевской премии за выдающиеся научные результаты стали инженеры-технологи Алексей Степанов, Всеволод Баскаков и Алекесандр Никифоров. И об этом мало кто знает.
В начале 80-х годов фирма Бранобель подчинила себе всю транспортировку нефтепродуктов. Она значительно увеличила их производство и сбыт.
Против ведущей компании периодически возникали экономические заговоры. Российские конкуренты пытались объединиться чтобы противостоять ее натиску. Но все эти попытки оказались безрезультатны. Нобели стали диктовать цены на сырую нефть на Бакинском рынке и вскоре бросили вызов заокеанским производителям керосина.
В свое время братья поставили цель — вытеснить американский керосин в русского рынка. Задача была не простой поскольку американцы на этом поприще были явными лидерами. Их керосин, который везли через пол-мира стоил дешевле отечественного! Это казалось экономическим парадоксом.
Пол ГРегори: «Я подозреваю, что стоимость перевозки нефти с мирового рынка в некоторые районы России, например, в такой крупный порт как Петербург, была ниже чем перевозка из Баку.»
Маршал Гордон:»Существует большая вероятность, что это было ходом в кокурентной борьбе с целью сбить цену. Своего рода дэмпинг.»
Нобели добились своего. В 1884 году американский керосин был полностью вытеснен с русского рынка. Но для Нобеля это была промежуточная победа. В их дальнейшие планы входила организация экспорта. Вскоре они начали вывозить керосин в Германию, Австро-Венгрию и Англию. Это вызвало беспокойство у человека, который считался самым азартным и агрессивным игроком на нефтяном рынке — Джона Рокфеллера.
Маршал Гордон, Гарвардский университет: «Бароны-разбойники, такие как Рокфеллер, вели себя очень агрессивно, пытаясь захватить контроль над нефтяным рынком и вытеснить всех конкурентов. Так что во многих отношениях он был типичным представителем своего времени.»
Рокфеллер начал свою блистательную карьеру мелким торговым агентом. Молодой человек, обожавший математику понял, что торговля керосином сулит огромные барыши. Он основал крохотную компанию Стандарт Ойл, которая поначалу мало чем отличалась от других подобных компаний. Однако благодаря энергии и бесцеремонности ее владельца этот экономический карлик в считанные годы вырос до размеров исполина.
«Он начал с покупки или аренды нефтяных участков, но его главным достижением стала покупка нефтеперерабатывающих заводов. Благодаря деловому чутью, он стал монопольным владельцем всех таких заводов в США. Он определял цены по которым расплачивался с нефтедобытчиками.»
Способ, каким обогатился Рокфеллер вошел в учебники экономической истории. Рокфеллер вступил в секретный сговор с владельцами железных дорог. Они снизили тарифы на перевозку его керосинв в обмен на часть прибыли из Стандарт Ойл.
«Его власть увеличилась, когда он при помощи своей монополии добился снижения цен на перевозку от железных дорог. Это означало, что он может доставлять и перерабатывать нефть гораздо дешевле чем его конкуренты.»
Рокфеллер наносил сокрушительные удары по конкурентам как в самих США так и за их пределами. И практически всегда инструментом его войны на уничтожение был демпинг. Но Россия оказалась Рокфеллеру явно не по зубам.
«Главным нефтяным магнатом на российском рынке был Нобель. Он контроллировал около трети российского рынка. У Нобеля были конкуренты, но в России ему конкуренцию составляла не Стандарт Ойл.
Главным конкурентом Нобеля на российском рынке стал Парижский банкирский дом Ротшильдов. Его основателем был Майер Ротшильд. Усилиями этого человека в конце XVIII века крохотная меняльная контора на узкой еврейской улочке Франкфурта превратилась в крупнейшее кредитное учреждение. Майер Ротшильд называл себя торговцем деньгами. Его девизом были слова: «Не надо давать деньгам залеживаться.»
Пятеро его сыновей основали биржи в Лондоне, Париже, Вене, Неаполе и Франкфурте. Они многократно приумножили богатства семьи. Ссужая деньги правительствам сильных стран, Ротшильды сосредоточили в своих руках огромные капиталы.
Интерес к нефтяному бизнесу они проявили вскоре после его зарождения. Нефтью занялась Парижская ветвь банкирского дома, которую возглавлял барон Альфонс де Ротшильд.
«В то время важность нефти понимали не многие и он приехал и понял насколько важны будут эти предприятия для экономического роста в будущем. Трудно было понять — сколько там нефти. Тогда нефть мало где добывали. О Саудовской Аравии никто и не знал. Мы не знали о Ближнем Востоке. Не знали о Ливии. Немного нефти добывалось в США. Но Баку… В то время Россия стала крупнейшим в мире добытчиком нефти. Это надо было понять, а потом уже потом пытаться все взять под свой контроль.»
В русский нефтяной бизнес Ротшильды вошли стремительно. Они начали с закупок керосина, вывоза его в Западную Европу и на Ближний Восток. Их козырем стал выгодный банковский кредит для бакинских компаний. Однако Нобели цепко держали в своих руках Бакинский район. Борьба между Нобелями и Ротшильдами развернулась на полную мощь. Она отчаянно боролись за мировые рынки сбыта керосина.
В этой борьбе приняла участие и треться сила. Группировка крупнейших нефтяных фирм во главе с Александром Манташевым, которое создала экспортное объединение Бакинский Стандарт. Все они действовали друг-другу на нервы. В середине 90-х Нобели и Ротшильды наконец-то решили договориться. Их объединила идея совместных действий против Стандарт Ойл.
На внешнем рынке их могучие фирмы стали компаньонами.
А в начале XX века Нобели и Ротшильды заключили соглашение о совместной продаже нефти на территории Российской Империи. В битве нефтяных великанов наступлио временное перемирие.
В следующей серии мы расскажем о борьбе за русскую нефть, которая развернулась в начале XX века. Знаменитые нефтяные пожары в Баку. Удары революционеров. Заговоры и интриги. Вот фон на котором развивался отечественный нефтяной бизнес.
Смотрите документальный сериал «Русское экономическое чудо. Страницы истории.»!
Standart Oil Кровь Войны
Даже не знаю от чего этот интерес… слишком много вокруг вопросов, слишком много не понимания и не знания.
Почему Россия — нефтедобывающая страна не продает готовое топливо на экспорт, а вынуждена торговать исключительно сырьем, оставаясь на вторых ролях на энергетическом рынке…
Казалось бы, чего проще — перерабатывай и продавай, но у каждого вопроса есть своя история, давайте сегодня окунемся немного в историю развития нефтяного мирового рынка.
10 января 1870 года в США была основана одна из крупнейших мировых нефтяных компаний под названием «Standart Oil» c начальным капиталом в 1 млн долларов на базе фирмы «Рокфеллер, Андрюс и Флаглер»
Контроль над железнодорожными перевозками позволил Джону Рокфеллеру стать практически монополистом в добыче нефти на континенте. А благодаря удобному расположению месторождений и их малому количеству и мировым монополистом.
К концу гражданской войны в США, город Кливленд был один из пяти главных центров по переработке нефти в стране (помимо Питсбурга, Филадельфии, Нью-Йорка, и области в северо-западной Пенсильвании). В июне 1870 года в штате Огайо основал компанию Standard Oil Company, которая в скором времени стала крупнейшим переработчиком нефти в штате. Компания стала также крупнейшим экспортером нефти и керосина в стране. Дабы снизить расходы по транспортировке и иметь возможность управлять тарифами по грузоперевозкам, Рокфеллер вместе с партнерами основал компанию South Improvement Company, которая стала частью Standard Oil. Это дало возможность снижения до 50% затрат для транспортировки продукции. Все эти рокфеллеровские ходы вызвали огромную бурю негодования и протестов от независимых владельцев нефтяных скважин, которое выражалось в проявлении акций бойкотов и вандализма. Всю эту акцию поддерживала нью-йоркская нефтяная компания Charles Pratt and Company, возглавляемая Чарльзом Праттом и Генри Роджерсом. В итоге транспортная компания Рокфеллера просуществовала всего лишь год, но и этого хватило существенно сэкономить и получить огромную прибыль.
Нисколько не напуганный и не унывающий Джон Рокфеллер продолжил свой натиск на нефтедобывающий рынок скупая нефтяные скважины, добиваясь существенных скидок на транспорт, заключая секретные сделки и выкупая конкурентов. Меньше чем через четыре месяца в 1872 году произошло событие которое назвали как «Кливлендское завоевание» или «Кливлендская Резня». Компания Рокфеллера поглотила 22 из 26 своих конкурентов в Кливленде. В конечном счете даже его бывшие противники, Пратт и Роджерс, видели всю тщетность продолжения конкурировать против Standard Oil. В 1874 году они заключили тайное соглашение о слиянии с компанией Standard Oil и стали партнерами Рокфеллера. В частности Роджерс стал одной из ключевых фигур в создании огромной корпорации Рокфеллера Standard Oil Trust. Сын Пратта, Чарльз Миллард Пратт стал Генеральным секретарем Standard Oil. Рокфеллер рассматривал себя как спасителя промышленности, «ангел милосердия», считая, что поглощая слабых он делал промышленность более сильной, стабильной, эффективной и конкурентоспособной. Компания развивалась во всех направлениях. Этот рост выражался в строительстве новых трубопроводов, грузовиков-цистерн, а также в создании так называемой сети доставки на дом, не забывая и о домашних хозяйствах. Все эти мероприятия позволяли сохранять цены на горючее на достаточно низком уровне, что способствовало возникновению трудностей для входа новых конкурентов на рынок. Новая компания решив войти на рынок, неминуемо должна была снизить цены, чтобы конкурировать с технологически оснащенной и быстро развивающейся компанией Рокфеллера, чем незамедлительно бы привела себя к банкроту. Развитие привело еще и к открытию болле 300 продуктов основанных на переработке нефти. К концу 1870-х годов Standard Oil перерабатывала уже 90% нефти в США. А Джон Рокфеллер к тому времени уже стал миллионером.
С ростом компании Standard Oil, управление ею становилось все более сложным и громозким. В 1882 году адвокаты Рокфеллера создали инновационную структуру организации компании, путем центролизирования всех дочерних компаний в одну большую корпорацию Standard Oil Trust. Новая компания стала огромнейшей организацией-корпорацией, размер и богатство которой привлекало немало внимания. Всего в корпорацию вошла 41 компания, управляемые Рокфеллером и партнерами. Общественность и пресса отнеслась с подозрением к вновь образованному юридическому лицу, но другие фирмы подхватили новую идею и стали подражать ей еще более возмущая итак недоверчивую общественность. Standard Oil Trust получила ауру непобедимости, всегда преобладающей против конкурентов, критиков, и политических врагов. Компания стала самой большой и самой богатой бизнес-структурой, которая была неуязвима к экономическим бумам и спадам, ежегодно увеличивая свои прибыли.
Американский керосин в голубых жестяных банках Standart oil появился в Санкт-Петербурге уже в 1862 году. Российский рынок сулил прямо-таки небывалые прибыли: огромная страна с радостью переходила с жировых свечей на американское светильное масло. Казалось, Рокфеллеру оставалось только подсчитывать прибыли.
В 1873 году в Баку прибывает Роберт Нобель — представитель знаменитой династии промышленников и изобретателей. Роберту удается убедить Российское правительство дать возможность добывать бакинскую нефть и развивать месторождения в Азербайджане.
Первая партия нобелевского керосина прибыла в Санкт-Петербург в 1876 году. Однако транспортировать нефть в центральную Россию было непросто: сначала по Каспию до Астрахани, затем баржами по Волге, потом — на железную дорогу… Не хватало подходящей тары: даже бочонки для нефти приходилось закупать в Америке.
Вскоре Нобелю удается полностью вытеснить рокфеллеровский керосин с российского рынка. Это была первая неудача Standart oil, которая доселе только тем и занималась, что «проглатывала» рынки один за другим.
Правда, на Бродвее, 26, в Нью-Йорке, где располагался офис Standart oil, надвигавшейся грозы не увидели. А может, не захотели увидеть. Ну и пусть «Товарищество братьев Нобель» торгует своим керосином в России — нам с лихвой хватит остального мира!
А нефтепромышленники Баку тоже столкнулись с проблемой «перепроизводства» и перенасыщения рынка. Спрос на керосин в Баку был невелик, а доставить его даже в Тифлис обходилось дороже, чем привезти сюда же американский керосин.
Уже в 1877 году два местных промышленника — Бунге и Палашковский — получили от российского правительства разрешение на строительство железной дороги в Батуми, только что захваченный у Турции. Это был уже выход к морю, а значит, и на мировой рынок нефти.
Однако радужные перспективы внезапно померкли — падение цен оставило Бунге и Палашковского буквально без средств, а многообещающее предприятие повисало в воздухе.
Именно в этот момент на каспийском горизонте появляется новая громкая фамилия — Ротшильды. Точнее, парижская ветвь знаменитой династии. Ротшильды профинансировали строительство железной дороги, выкупили закладные на нефтяные предприятия в России, основали БНИТО — «Батумское нефтеперерабатывающее товарищество». Нобели пытаются наверстать упущенное — при помощи изобретенного одним из братьев динамита прокладывается трубопровод из Баку в Батуми — тот самый, ставший прообразом Баку — Супса.
Отец Маркуса Сэмюэля сколотил первоначальный капитал, торгуя разными диковинками, которые он приобретал у моряков в лондонских доках. Немалую их часть составляли раковины. И даже на вопросы о роде своих занятий Маркус Сэмюэль-старший отвечал неизменно — торговец раковинами.
Его сын к моменту знакомства с Ротшильдами уже приобрел немалый вес среди лондонских торговцев и весьма успешно вел бизнес в Японии — а это уже был тот самый перспективный азиатский рынок. Он вместе с Лейном в 1890 году прибывает в Баку, где в числе прочего осматривает первые, еще примитивные, танкеры — именно этим кораблям, похожим на плавающие бутылки, предстоит сыграть решающую роль в нефтяной революции.
Верный памяти своего отца, первые танкеры Маркус Сэмюэль нарекал названиями морских раковин: «Мурекс», «Элакс», «Каури»… Компанию же свою он позже назовет Shell — раковина. Он заранее строил нефтехранилища и резервуары в портовых складах, чтобы максимально и одномоментно насытить рынок и не дать Standart oil времени опомниться и сыграть на демпинговых ценах. В мире уже был изобретен телеграф, и судоходство перестало быть рулеткой — теперь стало возможным планировать сделки и играть наверняка. И самое главное, лондонская страховая компания «Ллойд» сочла безопасными его танкеры, конструкция которых отличалась от «нефтевозов» Рокфеллера. Что сыграло решающую роль в получении разрешения на транзит нефти по Суэцкому каналу.
Первый танкер отправился в плавание 22 июля 1892 года. Однако вскоре возникли неожиданные проблемы: у новых потребителей керосина не было… тары, в которую можно было бы его разливать.
Сэмюэль надеялся, что покупатели придут за его керосином с известными всему миру банками Standart oil. Но он недооценил того простого факта, что имеет дело не с европейцами, а с азиатами. Где банки Standart oil стали сырьем для целой отрасли «местной промышленности»: из них делали венчики, чашечки, черепицу для крыш…Из всех портов летели трагические телеграммы.
Однако Сэмюэля не так-то легко было обескуражить. Недолго думая, он нагрузил корабль обычной жестью и отправил вслед за танкером, распорядившись начать в портах назначения производство посуды для керосина. Только в отличие от голубых банок Standart oil она была красной.
Немым свидетельством тех событий остается логотип компании Royal Dutch Shell — прямой наследницы предприятия Сэмюэля. Shell — «Раковина» — именно так назвал он свое предприятие. Сделав ее эмблемой золотую раковину на красном фоне.
Это уже была настоящая революция. Standart oil потерпела первое в своей истории поражение в борьбе за рынки. Теперь уже пришел черед Сэмюэля объединятья с конкурентами — действовать ему приходилось в непосредственной близости от голландской Royal Dutch, занимавшейся разработкой нефти на острове Суматра. Острая конкурентная борьба завершилась традиционно: уже летом 1898 года Shell по дешевке скупит акции Royal Dutch, и объединение двух компаний будет, по сути, предрешено. Кто-то из современников сказал про Маркуса Сэмюэля: «Он вел свой бизнес так же, как ездил на лошади. Казалось, что он вот-вот свалится, но он никогда не падал».
Нельзя сказать, чтобы Standart oil смирилась с поражением на южноазиатском рынке и попытками Ротшильдов и Нобелей вытеснить ее из Европы. Однако уже в 1895 году она вынуждена договориться с конкурентами — ей достается 75% рынка, торговцам российской нефтью — 25%. Но соглашение вскоре повисает в воздухе — против него выступает российское правительство.
После февральской революции все нефтяные промыслы в России были национализированы коммунистическим правительством. Помятуя о том, как в свое время русская нефть помешала глобальным планам «Стандарт Ойл» по захвату рынка, с Нобелями начала переговоры «Джерси» (одна из компаний-наследниц разделенной «Стандард»). Для американской компании потенциальный источник русской нефти, с помощью которого можно было контролировать значительную часть Европы и Азии был очень уж лакомым кусочком.В июле 1920 года, менее чем через три месяца после национализации, сделка была заключена. «Стандард ойл» приобрела права на половину нефтяной собственности Нобелей в России по действительно «минимальной цене сделки» — за 6,5 миллиона долларов с последующей доплатой до 7,5 миллиона долларов. Взамен «Стандард» получала контроль как минимум над третьей частью добычи нефти в России, над 40 процентами нефтепереработки и 60 процентами внутреннего российского нефтяного рынка. Посредником между коммунистами и капиталистами выступил Леонид Красин. Стройный, с острой бородкой, изысканный, убедительный и с виду благоразумный, он совсем не был похож на кровожадного фанатика, которого ожидали увидеть западные собеседники. Красин понимал капиталистов как никто из его товарищей, поскольку сам когда-то был одним из них. До войны он служил на вполне приличной должности менеджера Бакинской электрической компании, а затем был российским представителем крупного германского концерна «Сименс». «Стандард» завершала свои переговоры с Нобелями, а Красин тем временем прибыл в Лондон для обсуждения торговых отношений от имени правительства большевиков. В ходе переговоров Красин проявил себя как сторонник поощрения аппетитов, желавших торговать британских бизнесменов. Но от него мало что зависело. Его страна шла к экономической катастрофе — падение промышленного производства, инфляция, острая нехватка капитала и повсеместный дефицит продуктов питания, переходивший в голод. Россия отчаянно нуждалась в иностранном капитале для разработки, добычи и продажи своих природных богатств. И в ноябре 1920 года Москва выдвинула новую политику предоставления концессий иностранным инвесторам.
Затем, в марте 1921 года, Ленин пошел еще дальше. Он объявил о новой экономической политике, предусматривавшей значительное расширение советской рыночной системы, восстановление частных предприятий, а также расширение советской внешней торговли и продажу концессий. Это не значило, что изменились убеждения Ленина — он реагировал на срочную и крайнюю необходимость. «Мы не можем своими силами восстановить нашу разрушенную экономику без зарубежного оборудования и технической помощи», — заявлял он. Для получения этой помощи он был готов предоставить концессии «наиболее мощным империалистическим синдикатам». Характерно, что первые два примера нового курса были связаны с нефтью — «четверть Баку, четверть Грозного». Нефть могла снова, как в царские времена, стать наиболее доходным экспортным товаром. Одна из большевистских газет назвала ее «жидким золотом». Постепенно в Россию полился все более набирающий силу поток инвестиций. На многих рынках мира компании начали ощущать все растущее давление конкуренции со стороны дешевой русской нефти. Советская нефтяная промышленность, практически мертвая с 1920 по 1923 годы, начала быстро восстанавливаться с помощью крупномасштабного импорта западных технологий, и СССР вскоре вышел на мировой рынок в качестве экспортера нефти. Стоит заметить, что экспорт керосина и бензина оставался только у Батумского нефтеперерабатывающего товарищества, в то время как остальные месторождения экспортировали лишь сырую нефть. Вся нефтеперерабатывающая промышленность с 20-х годов прошлого столетия работала исключительно на внутренний рынок страны.
После войны советская нефть, естественно, принадлежащая государству, официально практически не выходила за пределы «железного занавеса».
Но на деле все было иначе. В 1954 году Арманд Хаммер, набивший руку на выгодной торговле с коммунистами, от лица американской компании Occidental Petroleum договорился с Никитой Хрущевым о продаже советской нефти на Запад. Она в небольших объемах пошла на рынки через Иран под видом иранской нефти. В 1970-1980-е годы СССР, где основной нефтяной акцент переместился с Каспия на Сибирь, продавал свою нефть, выполняя венесуэльские и иракские контракты.
Источник
ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, содействовавших становлению и расцвету сверхдержавности Соединенных Штатов Америки, было их доминирование на мировых нефтяных рынках. Этот фактор начал формироваться еще с конца XIX века, и его действие нарастало в течение всего ХХ столетия. Поэтому, чтобы правильно оценить складывающуюся сегодня ситуацию и попытаться ответить на вопрос, насколько обоснованы нынешние претензии американской администрации на сохранение их былой сверхдержавности, было бы полезно хотя бы вкратце коснуться предыстории вопроса.
Немного истории
США первыми начали промышленную добычу нефти, после того как псевдополковник Дрейк освоил первую буровую вышку в 1859 году и положил начало «нефтяной лихорадке» в Пенсильвании. Вскоре Джон Дэвисон Рокфеллер положил начало масштабной переработке нефти, открыв ее «керосиновую эру» (бензин тогда считался побочным продуктом и продавался, если это удавалось сделать, по ничтожным ценам). Действуя весьма расчетливо и предельно жестко, Рокфеллер реализовал процесс концентрации и централизации капитала в области нефтепереработки и создал знаменитую монополию «Стандард ойл компани». Хотя у него были хорошие отлаженные связи с железнодорожными компаниями, что давало ему огромные преимущества (особенно по тарифам на перевозку нефти и нефтепродуктов), он сразу же оценил историческое значение трубопроводной транспортировки нефти, что стало для того времени крупным технологическим прорывом. Рокфеллер с откровенным презрением относился к многотысячной анархичной армии нефтедобытчиков и быстро понял необходимость хотя бы частично — для обеспечения стабильности поставок нефти на свои предприятия — вторгнуться в область нефтедобычи (к 1891 г. «Стандард ойл» уже контролировала четверть всей добычи)1. Так «Стандард ойл» превратилась в первую вертикально интегрированную корпорацию. Вряд ли можно сомневаться в том, что возникновение и развитие нефтяной промышленности внесло весьма весомый вклад в процесс превращения США после завершения Гражданской войны (1861-1865 гг.) из аграрной в индустриальную державу.
По мере консолидации на внутреннем нефтяном фронте появилась возможность крупномасштабного экспорта нефти в Европу, где происходила в это время промышленная революция. В 1870 и 1880-х годах больше половины произведенного в США керосина шло на экспорт, в основном на самый крупный в это время европейский рынок, в том числе и в Россию. Впрочем, в России со второй половины 1870-х уже появились свои крупные производители керосина в Баку: сначала «Бр. Нобели», а затем и «Бр. Ротшильды», которые вскоре вытеснили американский керосин с российского рынка. Более того, на какое-то время (в 1898-1902 гг.) Россия даже перегнала Америку по объему добычи нефти. И это положило начало борьбе за мировые нефтяные рынки (что в соответствующей литературе получило название «нефтяных войн»).
Доминирующая роль США в мировой энергетике особенно усилилась в ходе Первой мировой войны. Готовясь к будущим схваткам, в стремлении обеспечить себе стабильные поступления нефти, Великобритания, Голландия, Франция, Германия устремились на ее поиски в Юго-Восточную Азию (Бирму, Индонезию), на Ближний Восток (во владения Оттоманской империи, в Иран, Кувейт). Но это были только первые шаги, и к началу войны они не успели добиться поставленной цели. С другой стороны, в России нарастала социально-политическая нестабильность — бездарная и неудачная война с Японией, первая революция 1905-1907 годов и, наконец, свержение монархии и Октябрьский переворот 1917 года. В результате Россия надолго вышла из большой игры на «нефтяном поле». Неудивительно поэтому, что США, на которые приходилось в годы войны 65-67% от мирового производства нефти, обеспечивали в этот период 80% потребностей в ней своих европейских союзников. Война окончательно прояснила: доступ к источникам нефти стал важнейшей составной частью национальных стратегий мировых держав. Вот почему сразу же после ее окончания начался передел нефтяного мира, в который активно начали втягиваться и Соединенные Штаты. При этом правящие круги Америки стали все чаще задумываться над тем, чтобы переключить европейских союзников на поставки нефти из стран Ближнего Востока, а свою нефть приберечь для собственных нужд.
В какой-то мере сходная ситуация сложилась в ходе и после Второй мировой войны. В рамках поставок по ленд-лизу США снабжали союзников (в том числе СССР) также и нефтью, и нефтепродуктами. Несмотря на массовое недовольство, для этого пришлось ввести в Штатах систему рационирования продаж бензина населению. Вместе с тем именно в этот период среди администрации президента стало окончательно крепнуть убеждение в необходимости более последовательного осуществления политики «консервирования» нефтяных ресурсов на случай возникновения третьей мировой войны. Но для реализации этой идеи необходимо было договориться с Великобританией о послевоенном разделе мировых нефтяных рынков. Переговоры на эту тему начались еще в ходе войны, с 1943 года. Великобританию тогда сильно волновало предчувствие, что в результате этого раздела установится абсолютная гегемония США, в том числе за счет самой Англии. Но в феврале 1944 года великий демократ Президент Рузвельт при встрече с английским послом Галифаксом «успокоил» своего союзника, с американской непосредственностью заявив: «Персидская нефть ваша. Нефть Ирака и Кувейта мы поделим. Что касается нефти Саудовской Аравии, то она наша»2.
Предчувствия не обманули англичан. Великобритания была настолько ослаблена войной, что не смогла единолично справиться с чрезвычайно турбулентной ситуацией в Иране, приведшей к национализации Англо-иранской нефтяной компании (АИНК) правительством экстравагантного Мохаммеда Моссадыка и бегству шаха из страны. А после организованного ЦРУ контрпереворота США приступили к формированию консорциума западных компаний, в который помимо АИНК (ВР) вошли еще «Shell», пять американских компаний и одна французская нефтяная компания. В консорциум были вовлечены также американское и британское правительства. Эти события фактически положили начало эре «англо-саксонского» доминирования в мировой нефтегазовой отрасли, эре без малого 30-летнего господства в ней «семи сестер» — «Exxon Corporation», «Royal Dutch/Shell», «Texaco Incorporated», «Chevron», «Mobil Corporation», «Gulf Oil Corporation» и «British Petroleum». Вместе с тем это был важный шаг, закреплявший окончательный переход власти и влияния в мире капитализма от бывшей мировой империи — Великобритании к новой быстро формирующейся сверхдержаве.
Один из важнейших моментов новой нефтяной эры заключался в том, что в основу так называемой свободной торговли нефтью между странами-экспортерами и странами-потребителями была положена «справочная цена», устанавливавшаяся в соответствии с американскими ценами на нефть, добываемую в районе Мексиканского залива. Таким образом, в конечном счете мировые цены определялись Техасской железнодорожной комиссией, которая на протяжении всех предшествующих десятилетий строго контролировала квоты на добычу и цены на нефть в самих США. Она также следила за тем, чтобы импорт дешевой «иностранной» нефти не нанес ущерба тысячам американских нефтедобытчиков. Вообще, вся история деятельности этой комиссии (а подобные комиссии под другими названиями были созданы и во многих других нефтедобывающих штатах), неизменно поддерживаемой федеральными властями, окончательно развеивает укоренившийся среди наших либералов миф о якобы полностью свободной и либеральной модели нефтепромышленности США. На деле государство с самого начала и до сегодняшнего дня самым настоятельным образом вмешивалось и влияло на все звенья и этапы развития этой стратегической отрасли, преследуя по крайней мере две важные цели: а) поддержание стабильности в отрасли и экономике в целом и б) «консервация» резервов на случай непредвиденных катаклизмов.
Активизация Соединенных Штатов на мировых нефтяных рынках шла рука об руку с зарождением холодной войны. Было очевидно, что США окончательно решили покончить с ролью мирового поставщика нефти и придерживаться политики «консервации» собственных ресурсов на случай будущей войны. В 1948 году импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США впервые превысил их экспорт. С тех пор и до сегодняшнего дня для энергетической политики практически всех американских администраций характерна двойственность и противоречивость: с одной стороны, руководители страны должны были «обосновывать» неуклонно растущий импорт нефти (а теперь и природного газа) истощением ее внутренних резервов (если бы это было так, то нефть в США давно должна бы кончиться), а с другой — время от времени обещать электорату (особенно в случае очередного взлета нефтяных цен и в периоды предвыборных кампаний) покончить с зависимостью от «иностранных» углеводородов (которая все же пока более выгодна для США по сравнению с освоением новых и альтернативных собственных ресурсов).
Еще один аспект двойственности энергетической политики в общем контексте внешнеполитического курса США после Второй мировой войны заключался в двойных стандартах, применявшихся американской администрацией к той или иной стране в зависимости от наличия у нее значительных нефтяных резервов. Проблемы демократии и прав человека неизменно отходили на задний план, уступая первенство прагматичным нефтяным интересам. Наиболее ярким примером в этом отношении была «дружба» США со средневековой Саудовской Аравией. Так, в октябре 1950 года Президент Гарри Трумэн в письме королю ибн Сауду, в частности, писал: «Я хочу напомнить Вашему Величеству те заверения, которые неоднократно давались ранее, в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении независимости и территориальной целостности Саудовской Аравии. Любая угроза Вашему королевству будет немедленно воспринята как угроза Соединенным Штатам»3. Здесь, как говорится, комментарии излишни.
Стоит, однако, заметить, что по мере роста национально-освободительных движений в странах Азии, Африки и Латинской Америки монопольная система «семи сестер» медленно, но неуклонно подвергалась эрозии. Решительный удар был нанесен ей в 1973 году, когда, воспользовавшись очередной арабо-израильской войной, арабские страны (и примкнувшая к ним Венесуэла) решили объявить нефтяное эмбарго против США и Нидерландов за их одностороннюю поддержку Израиля. В результате цены на нефть выросли в четыре раза. Главное, однако, заключалось в том, что была порушена система «справочных цен», что цены теперь устанавливались странами ОПЕК, которая обрела «второе дыхание», что события эти стимулировали новую волну национализаций и положили начало новому этапу борьбы образовавшихся национальных нефтяных компаний развивающихся стран против западных majors и supermajors.
Любопытно, что Саудовская Аравия приняла активное участие в организации эмбарго, руководствуясь весьма прагматичной установкой: «дружба — дружбой, а табачок — врозь». Но в условиях холодной войны между двумя лагерями и растущим Движением неприсоединения США не могли себе позволить серьезной ссоры с каким-либо из двух «столпов» своей ближневосточной политики — Саудовской Аравией или Ираном (который, правда, не присоединился к эмбарго, но активно настаивал на повышении цен). В свою очередь, нефтедобывающие страны и их молодые нефтяные компании еще не обладали необходимым опытом и знаниями в области современных технологий добычи, переработки, транспортировки и сбыта нефти. Все это им еще предстояло освоить в последующие 2-2,5 десятилетия. Поэтому исторический прорыв, который совершили нефтедобывающие страны, завершился историческим компромиссом с правительствами и международными корпорациями Запада. Тем не менее в ходе последующего процесса сотрудничества и борьбы между национальными и иностранными нефтяными корпорациями соотношение сил постепенно менялось в пользу первых. Мировой нефтяной рынок прошел в начале 1980-х годов еще через промежуточный кризис, связанный с «зеленой революцией» в Иране и последовавшей Восьмилетней ирано-иракской войной, в ходе которого цены на нефть достигли своего максимума (в постоянных ценах) за весь послевоенный период (до октября 2007 г.).
В настоящий момент мы являемся свидетелями завершающего этапа тех тектонических сдвигов в мировой энергетике, начало которым положили события 1973-1974 годов. Этап этот также характеризуется значительным повышением цен на нефть и, соответственно, привязанных к ним цен на природный газ. Но на этом сходство и кончается. Нынешний кризис носит более длительный и устойчивый характер, и в основе его лежат фундаментальные причины, а именно:
1. Это, прежде всего, принципиальное изменение соотношения сил игроков на мировом нефтегазовом поле, которое нарастало в течение 90-х годов ХХ — начале ХХI века. Национальные нефтяные компании добывающих стран стали более зрелыми и все больше вторгаются в сферы, в которых прежде доминировали западные majors. Ослабла (хотя и не исчезла вовсе) их технологическая зависимость от последних, так как глобализация породила феномен аутсорсинга, а последний, в свою очередь, стимулировал отпочкование сервиса от крупных нефтяных корпораций в самостоятельную, очень быстро развивающуюся и наиболее прибыльную отрасль в нефтегазовом бизнесе. Самостоятельным сервисным компаниям теперь все равно кого обслуживать, и это значительно усилило позиции национальных нефтегазовых компаний визави majors. Более того, некоторые национальные компании стали даже конкурировать с majors по части инвестирования в третьих странах (например, малайзийская «Petronas» или все четыре китайские нефтяные корпорации и т.д.). Все это ведет к ослаблению позиций западных нефтяных корпораций. Ныне они контролируют лишь 10% мировых углеводородных резервов, и это является одним из главных факторов, тормозящих рост их капитализации. (Неслучайно последние годы отмечены скандалами вокруг некоторых всемирно известных корпораций, связанных с фальсификацией данных о размерах их капитализации.) Ряд supermajors стали вкладывать существенные средства в разработку альтернативных источников энергии. Другие ищут выход в синергетическом эффекте от совмещения в сфере downstream энергетических поставок (газ, электричество) с рядом других коммунальных услуг населению.
2. Изменилась структура потребительского нефтегазового рынка. Раньше главными потребителями нефти и газа были три высокоразвитых региона — Северная Америка (прежде всего США), Европейский союз (прежде всего крупные страны — Германия, Великобритания, Франция, Италия) и Северо-Восточная Азия (Япония, Южная Корея, Тайвань). Теперь в связи с ускорением экономического роста в таких крупных и средних развивающихся странах, как Китай, Индия, Бразилия, Таиланд и ряде других государств, число серьезных потребителей углеводородных ресурсов значительно расширилось. Китай обогнал по потреблению нефти Японию и вышел на второе место после США, Индия и Бразилия обогнали или стали вровень со многими крупными потребителями Европы. К этому следует добавить и то обстоятельство, что некоторые добывающие страны стали теперь по-другому тратить свои петродоллары. Если после «революции цен» начала 1970-х львиная их доля тратилась на предметы роскоши, дорогостоящую недвижимость в развитых капиталистических странах и т.д., то теперь значительная часть экспортных доходов инвестируется в национальную экономику. (Наиболее ярким примером этого является Саудовская Аравия, которая весь добываемый природный газ использует для крупномасштабного развития нефтехимии.) Отмеченные выше изменения в географической и страновой структуре потребителей углеводородного сырья избавили добывающие страны от односторонней зависимости от высокоразвитых стран, обеспечили им большую свободу маневра и вообще принципиально изменили в некоторых случаях характер взаимосвязей между партнерами по рынку. Теперь Саудовская Аравия и Иран являются главными поставщиками нефти Китаю, а Китай важным поставщиком оружия. И все это происходит на фоне коррозии некогда прочных позиций США на Ближнем Востоке. Причем новые потребители конкурируют с традиционными не только в сфере торговли углеводородными ресурсами, но и энергично вторгаются в область прямых и портфельных инвестиций в развивающихся странах и по всему миру.
Вот на таком историческом фоне администрации США приходится решать современные энергетические проблемы своей страны.
Влияние структурного мирового нефтяного кризиса на энергетическую ситуацию в США
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, что в результате принципиальных изменений, произошедших за последние 20 лет как в мировых масштабах, так и на страновом уровне, энергетическая безопасность высокоразвитых капиталистических государств в целом находится сегодня под серьезной угрозой. И действительно, у многих из них вовсе нет углеводородных ресурсов (Япония, Южная Корея, Тайвань, ряд европейских государств), у других — старые месторождения стремительно истощаются (Великобритания, Норвегия, Нидерланды). Если судить по имеющейся официальной статистике, касающейся резервов, производства нефти и газа в США, то на первый взгляд может создаться впечатление, что ситуация и в этой стране не является особым исключением из общей картины этих высокоразвитых стран. Так это выглядит, по крайнем мере, при знакомстве с данными ежегодных обзоров по мировой энергетике, публикуемых статистической службой нефтяной корпорации ВР.
Таблица 1
Изменение производства и потребления нефти
в Северной Америке за 20 лет (в млн. т)
|
Производство |
Доля в мире |
Потребление |
Доля в мире |
|||
|
1996 |
2006 |
2006 |
1996 |
2006 |
2006 |
|
|
США |
382,1 311,8 |
8% |
836,5 938,8 |
24,1% |
||
|
Канада |
115,5 151,3 |
3,9% |
82,1 98,8 |
2,5% |
||
|
Мексика |
162,6 183,1 |
4,7% |
75,6 86,9 |
2,2% |
||
|
НАФТА |
660,1 646,1 |
16,5% |
994,3 1124,6 |
28,9% |
||
Источник: BP Statistical Review of World Energy, London, June 2007, pp. 9, 12.
Из таблицы 1 следует, что, добывая всего 8% от мирового производства нефти, США прочно удерживают первое место в потреблении более 24% (причем с огромным отрывом от Китая — 9% и Японии — 6%). За прошедшие 20 лет разрыв между потреблением и производством увеличился с 454,4 млн. тонн в 1996 году до 627 млн. тонн в 2006 году. И хотя входящие в экономическое сообщество НАФТА два главных поставщика нефти в США за два десятилетия нарастили свою добычу — Канада на 35,8 млн. тонн и Мексика на 20,3 млн. тонн, — но их совокупный прирост в 2006 году (56,1 млн. т) не смог перекрыть образовавшийся разрыв в уровнях производства и потребления нефти в США за тот же период (70,3 млн. т). Сделать это не позволил рост внутреннего потребления нефти в Канаде (на 16,7 млн. т) и в Мексике (на 11,3 млн. т). Скорее всего, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
Значительное сокращение добычи нефти в США имело для этой страны по крайней мере два существенных последствия: во-первых, они оказались отброшены на третье место по добыче в мире. С 2002 года Россия начала уверенно обходить Штаты по этому показателю, и в 2006 году ее добыча составила 480,5 млн. тонн, или 12,3% от общемировой добычи. Во-вторых, произошло резкое увеличение удельного веса импорта нефти в общем ее потреблении США. Если в 1996 году Соединенные Штаты импортировали 9,4 млн. баррелей в день, то в 2006 году — уже более 13,6 млн. баррелей (т.е. прирост импорта в течение 2006 г. превысил 200 млн. т). В итоге в 2006 году США импортировали 671 млн. тонн нефти и нефтепродуктов (из них 502,7 млн. т сырой нефти), а вывезли 63,1 млн. тонн (из них 60,4 млн. т нефтепродуктов). Чистый импорт нефти и нефтепродуктов составил, таким образом, 608 млн. тонн, или более 64,75% от внутреннего потребления.
Однако для оценки глубины проблемы энергетической безопасности США еще большее значение имеет состояние ее резервов. Статистика доказанных резервов нефти Северной Америки вряд ли может внушить большой оптимизм.
Таблица 2
Доказанные резервы нефти в регионе НАФТА
(в млрд. барр.)
|
На конец |
Доля в |
На конец 1996 г. |
Доля в |
На конец |
Доля в |
|
|
США |
35,1 |
29,8 |
29,9 |
2,5% |
||
|
Канада |
11,7 |
11,0 |
17,1 |
1,4% |
||
|
Мексика |
54,9 |
48,5 |
12,9 |
1,1% |
||
|
НАФТА |
101,6 |
11,6% |
89,3 |
8,5% |
59,9 |
5,0% |
Источник: BP Statistical Review of World Energy, London, June 2007, pp. 6-7.
Впрочем, следует помнить, что в таблице 2 речь идет о доказанных резервах, то есть о количестве нефтяных ресурсов, которое с достаточной уверенностью может быть извлечено из недр в дальнейшем при данных экономических условиях и при современном уровне технологии, и что, например, при росте цен на сырье и/или применении продвинутой инновационной технологии размеры доказанных резервов могут быть существенно увеличены за счет — считающихся пока возможными и предполагаемыми — ресурсов. Примером тому может служить одна из стран Северной Америки — Канада, в которой включение в резервный актив месторождений нефтяных песков способствует увеличению показателя доказанных резервов. Причем потенциал подобных нетрадиционных (не путать с альтернативными!) источников нефти огромен. Так, в той же Канаде на конец 2006 года резервы битуминозного песка достигали 163,5 млрд. баррелей (без учета уже активно разрабатываемых месторождений в провинции Альберта). Это пока меньше доказанных резервов нефти Саудовской Аравии, но значительно больше иранских и иракских нефтяных резервов. поэтому, очевидно, не следует слишком буквально воспринимать приводимые в справочниках и научных изданиях и часто цитируемые в СМИ сроки истощения резервов в США или каких-либо других странах (так называемый показатель R/P, то есть соотношения доказанных резервов и уровня добычи на текущий год). Показатель этот весьма условный, ведь обе составляющие его компоненты могут изменяться в зависимости от увеличения объема резервов и/или того или иного изменения уровня мировых цен на нефть. Неудивительно поэтому, что в Канаде этот показатель возрос с девяти лет в 2002 году до почти 15 лет к концу 2006 года. (Ведь разработка битумных песков стала рентабельной уже при мировых ценах в 30-40 долл.) В США же он колебался за тот же период в пределах от 10,8 до 11,9 лет, что, как мы покажем ниже, объяснялось не столько отсутствием достаточных ресурсов нетрадиционных источников нефти, сколько «вялой» политикой администрации США.
В целом, однако, снижение удельного веса доказанных североамериканских ресурсов нефти в общемировых с 11,6% до 5% за 20 последних лет произошло, как это видно из таблицы 2, за счет Мексики, в то время как тенденция к сокращению нефтяных ресурсов в США, наблюдавшаяся между 1986-м и 1996 годами, сменилась в следующем десятилетии на более стабильную, что в определенной степени можно объяснить «компенсаторской» активностью мелкого и среднего американского бизнеса по освоению нетрадиционных источников нефти (сланцы, тяжелая нефть), а также освоением majors нетрадиционных месторождений глубоководного шельфа (по существу, ставших уже традиционным). Кроме того, общее снижение удельного веса североамериканских резервов произошло не только вследствие истощения собственных доказанных резервов, но и за счет расширения круга стран, добывающих нефть. Об этом наглядно свидетельствует рост общемировых доказанных резервов за последние 30 лет: в 1986 году — 877,4 млрд. баррелей, в 1996 году — 1049 миллиардов и в 2006 году — 1208,2 млрд. баррелей.
Является ли рост импорта нефти неизбежной альтернативой освоению нетрадиционных ресурсов США?
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ энергетическая ситуация в США сегодня является кризисной? Думается, что речь, скорее всего, должна идти о структурном кризисе сложившейся за последние десятилетия модели индустриального развития и так называемого американского образа жизни, основывавшихся, во-первых, на собственных значительных углеводородных ресурсах и, во-вторых, на легкодоступном импорте дешевой традиционной нефти, которую к тому же легче было перерабатывать в светлые нефтепродукты. Ведь благодаря мощному развитию автомобильной индустрии в США 2/3 потребления нефти (2003 г.) приходилось на транспортный сектор (самый высокий показатель в мире). Все разговоры об истощении нефти, конце нефтяной эры и т.д. весьма далеки от реального положения дел. Истощаются не нефтяные ресурсы, а легко добываемая и поэтому дешевая нефть, и чтобы решить эту проблему, необходимы значительные финансовые вливания, политическая воля и соответствующие действия государственной власти. Если бы администрация США тратила на решение этой проблемы хотя бы только те суммы, которые она расходует на ведение военных действий в Ираке, Афганистане и т.д., то проблемы нехватки нефти давно не существовало бы. Вот несколько аргументов в обоснование этого мнения.
1. Чаще всего, говоря об истощении нефти, ссылаются на статистику по доказанным резервам, оставляя при этом за скобками, что наличные ресурсы даже на эксплуатируемых месторождениях значительно больше. Так, благодаря технологическим достижениям средняя извлекаемость нефти из скважин достигла 35%. Но 65%-то остаются в недрах! Повышение извлекаемости, как об этом свидетельствует исторический опыт, зависит от технологических инноваций. Ведь еще 30 лет назад извлекали только 20%, а 60 лет назад — меньше 15% нефти.
2. От внимательного наблюдателя вряд ли ускользнет тот факт, что, несмотря на периодически вбрасываемые алармистские высказывания об усилении зависимости США от иностранной нефти, в целом и администрация, и Конгресс довольно спокойно относятся к росту дороговизны импортируемой нефти. Возможно, «секрет» этого спокойствия заключается в том, что на самом деле, оставаясь главным потребителем нефти в мире, экономика США, однако, менее зависима сегодня от нее, то есть менее интенсивно потребляет нефть на создание единицы своего ВВП, чем в 70-х годах прошлого века. С того времени экономика США выросла на 150%, а потребление нефти — на 25%. С другой стороны, средняя стоимость затрат на один баррель в 2006 году (включая изыскание, освоение месторождения и доставку продукта в хранилище) составляла 24,73 доллара и была существенно ниже дохода, получаемого с этого барреля, — 43,62 доллара. Короче говоря, в отличие от большинства высокоразвитых союзников США в Западной Европе и Северо-Восточной Азии (не говоря уже о развивающихся странах), действительно зависимых от нефти, высокоразвитой экономике США нынешний рост нефтяных цен не наносит слишком ощутимого ущерба.
3. Концепция истощения нефтяных ресурсов основана на игнорировании нетрадиционных источников нефти. Выше уже отмечалось, что в соседней с США Канаде (одна из немногих добывающих стран, куда majors имеют свободный доступ) в последние годы активизировались разработки нетрадиционных месторождений нефти (нефтяных песков, ультратяжелой нефти). Согласно прогнозам, к 2030 году в стране будет добываться по 3,5 млн. баррелей в день синтетической нефти на основе переработки нефтяных песков и еще 1,5 млн. баррелей в день из ультратяжелой нефти. Но ведь и сами США богаты нетрадиционными источниками нефти. Согласно докладу, подготовленному специальной Рабочей группой, созданной в марте 2006 года министром энергетики С.Бодменом (S.W.Bodman), если бы правительство устранило все препятствия на пути к освоению нетрадиционных источников нефти и перестало создавать атмосферу неопределенности, препятствующую необходимым инвестициям, то к 2035 году можно было бы выйти на уровень производства нескольких миллионов баррелей нетрадиционной нефти в день. В докладе отмечалось, что США располагают потенциалом ресурсов нефтяных сланцев более чем в 2 трлн. баррелей в нефтяном эквиваленте в основном в Колорадо, Юта, Вайоминг и некоторых других штатах с перспективой извлечения даже при современном технологическом уровне более 2,5 млн. баррелей в день нефти в течение 30 лет. Кроме того, из 54 млрд. баррелей битуминозных песчаников, расположенных в Юте, Аляске, а также ряде других штатов, возможно было бы извлечь около 11 млрд. баррелей нефти. Можно было бы, наконец, поддержать усилия некоторых нефтегазовых компаний по разработке новых месторождений газовых сланцев в Западном Техасе, Алабаме, Аппалачах и в районе Скалистых гор, а также по возобновлению освоения обнаруженных в предшествующие годы месторождений газоносных песков. Тем более что производство нетрадиционного газа в США в 2006 году составило 8,6 трлн. куб. футов (против пяти в 1996 г.), или 43% от общей добычи природного газа. Именно этот рост добычи компенсировал катастрофическое падение добычи из традиционных источников природного газа. Вместо этого исследования и разработки в области нетрадиционных источников и инвестирование в развитие новых технологий были сокращены. Институт газовых исследований прекратил свое существование, в самом Министерстве энергетики США исследования и технологические программы пришли в упадок. Все это привело к торможению технологического прогресса в данной сфере.
Но все это уже бывало и раньше. Так, Д.Ергин в одной из своих последних публикаций вспоминал, как после очередного нефтяного шока в 1980 году правительство США ассигновало 17 млрд. долларов централизованной государственной компании «Synthetic Fuels Corp.» для разработки проектов освоения нефтяных сланцев и для конверсии угля в жидкое топливо. Было запланировано выделение в дальнейшем еще 68 млрд. долларов. Как отмечает Ергин, это было грандиозное начинание в духе «трех М» — Манхэттенского проекта, плана Маршалла и Человека в Космосе (Man in Space). Однако стоило ценам на нефть стабилизироваться, и к 1986 году от грандиозных замыслов остались одни воспоминания. И вот теперь Президент Буш в своем ежегодном обращении о положении в стране (State of Union Address) 2006 года снова жалуется на то, что «страна оказалась на нефтяной «игле», которая импортируется из нестабильных районов мира». Буш сформулировал затем задачу — к 2017 году завершить программу сокращения потребления бензина на 20%. В том числе — на 15% за счет замены бензина биотопливом и на 5% за счет ежегодного увеличения (на 4%) продаж новых легких транспортных средств.
Многочисленные американские эксперты уже подвергли эти планы скрупулезному анализу и пришли к выводам, что, во-первых, предложения эти нереалистичны и не решат поставленную задачу, что, во-вторых, бензин еще долге время (не одно десятилетие) будет незаменимым топливом для американского транспортного сектора, что, в-третьих, обновление парка машин (в случае, если альтернативные виды топлива докажут свою экономичность и массовую применимость) потребует значительно большего времени (переоборудование самих автозаводов, продажные циклы и т.д.) и что, в-четвертых, масштабный переход на производство биотоплива, решая одну проблему, создает новые (напряженность в сельскохозяйственном секторе, противоречие продовольствие vrs. биотопливо, рост цен на продовольствие и проблема его импорта и т.д.). При этом практически все эксперты единодушны в том, что для решения проблем нехватки жидкого топлива в США необходимы активное государственное участие и солидные инвестиции.
Однако вместо того, чтобы серьезно заняться стратегией масштабных технологических инноваций в рамках самого нефтегазового сектора, администрация предлагает некие паллиативные и отвлекающие внимание от сути проблемы «решения». Более того, подобные инициативы администрации Буша вносят сумятицу и дезориентируют нефтегазовый бизнес, создают дополнительные проблемы и вызывают сомнения в целесообразности столь необходимых новых инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, ставшую уже узким звеном в системе нефтяного сектора. Трудно представить себе, что в американской администрации нет серьезных специалистов, понимающих экономическую и энергетическую неадекватность создавшейся ситуации. А это может означать только одно: над подобными решениями и действиями администрации довлеют политические соображения. Видимо, и нынешняя администрация придерживается старой концепции консервирования нефтегазовых ресурсов на случай возникновения международных катаклизмов. Тем более что сама эта администрация в погоне за «журавлем сверхдержавности» усиленно провоцирует всевозможные конфликтные ситуации по всему свету. Ведь говоря о нефтяной «игле», администрация США и не помышляет об «избавлении» своей страны от богатейших нефтегазовых ресурсов Ближнего Востока и Каспийского региона.
Борьба США за контроль над маршрутами транспортировки углеводородных ресурсов
ПРИСТАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС администрации США к добыче и транспортировке зарубежного углеводородного сырья продолжает оставаться одной из самых главных составляющих американской внешней политики. Он объясняется не только заинтересованностью Америки в получении этого стратегического сырья для собственных внутренних потребностей. Администрация США, претендующая на «единоличную сверхдержавность», просто не может оставить без собственного «присмотра» обширные энергетические ресурсы стран Ближнего Востока и Каспийского региона. Главная цель, конечно, Ближний Восток, где сконцентрировано около 62% всех доказанных мировых резервов нефти и 40,5% запасов природного газа и где добывается сегодня (2006 г.) более 31% мировой нефти и 11,7% природного газа. Проблема, однако, в том, что былое американское доминирование в этом регионе в последние годы таяло на глазах. Даже Саудовская Аравия уже не рассматривается как надежный партнер. Поэтому-то США и решились на «крестовый демократический поход» в рамках проекта Большого Ближнего Востока. Оккупация Ирака под надуманным предлогом (ведь США не впервой развязывать войны под надуманными предлогами в тысячах миль от своих границ — вспомним Вьетнам) должна была послужить первой ступенью в реализации этого проекта. Расчет, однако, не оправдался не только в плане химерической затеи экспорта демократии в совершенно не готовую для этого страну, но и в смысле полноценного восстановления одного из крупнейших источников ближневосточной нефти. Более того, военное вмешательство США усилило историческую нестабильность, характерную для всего этого региона, а сам Ирак превратило в еще один крупный очаг международного терроризма. Но вот что любопытно: судя по всему, не собираясь на деле отказываться от наращивания импорта нефти, администрация США тем не менее заранее озаботилась по части серьезной диверсификации географии этого импорта, исподволь готовясь к варианту затяжного развития процесса «демократизации Большого Ближнего Востока». Об этом наглядно свидетельствуют данные, приведенные в таблице 3.
Таблица 3
Источники импорта нефти в США
(в среднем, в млн. б/д)
|
Страна-источник |
1992 |
2007 |
|
Алжир |
2,01 |
0,721 |
|
Кувейт |
1,6 |
0,202 |
|
Нигерия |
0,675 |
1,078 |
|
Саудовская Аравия |
1,756 |
1,445 |
|
Венесуэла |
1,088 |
1,356 |
|
Прочие ОПЕК |
0,279 |
0,629 |
|
Всего ОПЕК |
4,015 |
6,013 |
|
Ангола* |
0,332 |
0,582 |
|
Канада |
1,059 |
2,423 |
|
Мексика |
0,835 |
1,592 |
|
Норвегия |
0,122 |
0,170 |
|
Великобритания |
0,191 |
0,313 |
|
Виргинские о-ва |
0,246 |
0,319 |
|
Прочие не ОПЕК |
0,981 |
2,732 |
|
Всего не ОПЕК |
3,766 |
7,549 |
|
ВСЕГО ИМПОРТ |
7,781 |
13,562 |
* В 2007 г. Ангола вступила в ОПЕК, и ее данные за этот год включены в суммарную графу «Всего ОПЕК».
Источники: Oil and Gas Journal, Dec. 27, 1993, p. 116 and Oct.22, 2007, p. 86.
Из приведенной выше таблицы очевидно, что при неуклонном и масштабном росте общего американского импорта нефти за прошедшие 15 лет в географической структуре этого импорта произошли следующие весьма серьезные изменения:
1. Если в 1992 году поставки нефти из стран ОПЕК превалировали над импортом из стран, не являющихся членами этой организации, то сегодня преобладающее место заняли эти последние, которые обеспечили львиную долю прироста импорта — около 3,8 млн. баррелей в день. При этом более половины этого прироста — свыше 2,1 млн. баррелей в день — обеспечили две соседние с США страны, входящие вместе с ними в Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (НАФТА), — это Канада, которая значительно более чем вдвое увеличила свои поставки, и Мексика, чей экспорт стал больше почти в два раза.
2. Что касается стран ОПЕК, то хотя абсолютные физические объемы нефти из этой группы в США выросли, но произошло это за счет неарабских государств (Нигерия, Ангола, Венесуэла), в то время как из ближневосточных стран импорт в США уменьшился.
Все это весьма выгодно отличает ситуацию в США от положения дел с импортом нефти в странах — союзницах Соединенных Штатов, не обладающих собственными углеводородными ресурсами (особенно в Северо-Восточной Азии и некоторых странах ЕС), которые все еще сильно зависят от поставок с Ближнего Востока. Иными словами, затевая свой сомнительный и опасный эксперимент «демократизации Большого Ближнего Востока», американская администрация заботилась лишь о реализации своих сверхдержавных устремлений, меньше всего заботясь о тех трудностях, перед которыми оказались (и еще будут оказываться) их наиболее верные союзники. Мы уже не говорим о том, что если бы США, опираясь на свое постиндустриальное технологическое превосходство, занялись разработкой своих огромных потенциальных ресурсов нетрадиционной нефти, природного газа и угля и тем самым сильно понизили уровень конкуренции на мировых энергетических ранках, то этим они в гораздо большей степени поспособствовали бы обеспечению энергетической безопасности дружественных им стран.
Другим направлением бурной активности администрации США на мировых энергетических рынках является Россия и СНГ. Во времена ельцинского правления, когда Россия была крайне ослаблена и пребывала в трясине экономического кризиса, всеобщей коррупции и беспредела, со всех этажей политического истеблишмента Америки делались лицемерные заявления о желании США иметь в лице сильной, экономически развитой и демократической России стратегического партнера. Но вот теперь, когда Россия начала действительно консолидироваться, ее экономика расти, а в сфере энергетики стал наводиться элементарный порядок, причем более либеральный, чем во многих других странах, и во всяком случае не выходящий за рамки общепринятых правил и практики мирового энергетического рынка, администрация США, напрочь забыв о своих прежних лицемерных заверениях, заняла жесткую критическую позицию. В значительной мере это была реакция на утрату «ельцинской России» тех времен, когда непрофессиональные и коррумпированные российские чиновники позволяли и самой Америке, и крупным западным корпорациям навязывать нам чрезвычайно выгодные для них условия.
Теперь главной доминантой энергетической стратегии США в отношении России стала установка на поощрение и навязывание третьим странам проектов нефте- и газопроводов в обход России. При этом преследовались две главные цели: во-первых, ослабление России, изоляция ее от других стран СНГ и, во-вторых, ослабление и понижение уровня энергетического сотрудничества со странами ЕС. Американская администрация и некоторые политические деятели аргументировали эту позицию в том духе, что, мол, широкое энергетическое сотрудничество ЕС с Россией будет способствовать укреплению ее экономики и усилению авторитаризма и политического режима. К тому же такое сотрудничество приведет якобы к росту «зависимости» ЕС от России. Разумеется, что при этом США игнорируют тот очевидный факт, что в данном случае ни о какой односторонней зависимости не может быть и речи. Ведь налицо взаимовыгодная взаимозависимость, которая могла бы стать значительным шагом к созданию Единого экономического пространства между ЕС и Россией, о желательности которого обе стороны говорят уже не один год. Но именно это-то и не устраивает США. Ведь ЕС является одним из их самых главных конкурентов на мировых рынках, а стабильное и тесное энергетическое сотрудничество с Россией могло бы, безусловно, содействовать повышению конкурентоспособности ЕС. Раздражает американскую администрацию и тот факт, что в рамках непосредственного энергетического сотрудничества ЕС — России нет места для США и их вездесущего контроля. Каждая крупная акция, связанная с подобным сотрудничеством, вызывает нервную реакцию Вашингтона, подчас выдвигающего просто абсурдные «доводы» против.
Так, например, случилось при заключении соглашения между «Газпромом» и немецкими компаниями BASF и E.ON о строительстве трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря, исключающего транзит через ряд стран, именуемых администрацией США «новой Европой». В конце октября 2006 года помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Кавказа и Южной Европы Мэттью Брайза в интервью газете «Financial Times Deutschland» заявил, что газопровод «Северный поток» (ранее именовавшийся Северо-Европейским газопроводом) усилит зависимость Германии от российского газа, что может привести к повторению на немецкой земле ситуации с Украиной. Трудно сказать, чего больше в этом откровенном вмешательстве в дела других стран — невежества или злонамеренности. Ведь строительство «Северного потока» как раз и направлено на то, чтобы ситуация с Украиной (или с Белоруссией) больше не повторялась и не создавала энергетическую угрозу для Германии и других стран ЕС. Неудивительно поэтому, что у российского МИД были все основания заявить по этому поводу следующее: «К сожалению, создается впечатление, что за противодействием США сначала «Голубому потоку», а теперь Северо-Европейскому газопроводу стоит не забота об энергетической безопасности Европы, а исповедуемый некоторыми американскими официальными лицами принцип, что хорошие газопроводы — это те, которые идут в обход России»4.
Только воспаленное воображение может воспринимать усилия России «развязать» некоторые «транзитные узлы», сооружая совместно со странами-потребителями газопроводы, напрямую соединяющие поставщиков и потребителей, угрозой этим потребителям. Если бы Россия вынашивала подобные планы, то зачем же ей было ввязываться в крупномасштабные инвестиции, да еще допускать компании стран-потребителей к совместной разработке новых месторождений у себя дома?
Впрочем, это не единственный рецидив из арсенала американской политики времен холодной войны. Ведь еще в давние советские времена США пытались помешать заключению взаимовыгодного соглашения между ФРГ и СССР по проекту «Газ в обмен на трубы».
Что касается стран СНГ, то администрация США стремится предотвратить формирование Единого экономического пространства ряда бывших советских республик с Россией и «замкнуть» энергетические маршруты из Азербайджана и Центральной Азии непосредственно на ЕС, минуя Россию. Ведь именно США были инициатором первого крупного энергетического проекта Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Тем самым именно США положили начало политизации энергетических проблем в этом регионе и обострению на этой почве отношений с Россией. Надо сказать, что на первом этапе реализации стратегии «Большого Каспия» усилия США увенчались успехом. Несмотря на многочисленные проблемы и трудности, нефтепровод был завершен в июле 2006 года. Был построен также Южно-Кавказский газопровод Баку — Тбилиси — Эрзерум. Но БТД до сих пор не может быть заполнен до проектной мощности, так как администрации США и Еврокомиссии не удалось пока продавить решение второй задачи проекта «Большого Каспия», а именно — добиться от Казахстана согласия на сооружение Транскаспийского нефтепровода. На руководство этой республики оказывается беспрецедентное давление, сопровождаемое всяческими посулами. Но пока удалось получить согласие на поставку в будущем некоторого количества нефти в Баку, но не по трубопроводу, а танкерами с Кашаганского шельфового месторождения, освоение которого должно было начаться с 2005 года, но перенесено на 2008 год, а теперь консорциум во главе с итальянской Eni ставит вопрос о переносе на 2011 год или более поздний срок с увеличением стоимости проекта с 57 до 136 млрд. долларов. Теперь правительство Казахстана требует от консорциума 10 млрд. долларов штрафа за задержку и угрожает лишить Eni статуса оператора. Так что БТД, скорее всего, еще несколько лет не сможет работать на свою полную мощность (50 млн. т в год).
В настоящее время Вашингтон вкупе с ЕС усиленно обрабатывает нового Президента Туркмении Г.Бердымухаммедова, добиваясь согласия на строительство Транскаспийского газопровода. Проблема, однако, в том, что никто не знает, сможет ли Туркмения обеспечить своим газом еще и ЕС. Ведь она в 2007 году подписала соглашение с Россией и Китаем, и никому ничего не известно о реальных размерах потенциальных запасов газа в этой республике. Между тем газ нужен Еврокомиссии для всемерно поддерживаемого Соединенными Штатами проекта «Набукко». Это еще один крайне политизированный проект газопровода, планируемого в пику «Газпрому», а не по соображениям экономической целесообразности. Судя по всему, однако, среди некоторых членов Еврокомиссии зреет более реалистическая оценка ситуации на европейских энергетических рынках. Во всяком случае, приветствуя новый проект «Газпрома», получивший название «Южный поток», Еврокомиссия, в частности, заявила: «Безопасность поставок состоит не только в получении новых поставщиков. Она также заключается в создании новых маршрутов поставок»5. Впрочем, вскоре после этого заявления Турция вознамерилась подхватить «знамя» проекта «Набукко» из ослабевших рук Еврокомиссии и 13 июля 2007 года подписала совместно с Ираном Меморандум о взаимопонимании по вопросам энергосотрудничества. Этот документ предполагает освоение турецкими компаниями двух блоков иранского газового месторождения Южный Парс. Добытый газ предназначен для наполнения проектируемого газопровода «Набукко», а дополнительные его объемы, по замыслу Турции, должна поставить Туркмения. По этому поводу Турция начала переговоры с Ашхабадом. Судя по всему, в своем рвении понравиться ЕС Турция переоценила глубину своих союзнических отношений с США. И напрасно. Реакция администрации США не заставила себя долго ждать. Она тут же выступила против планов Анкары и напомнила, что США разорвали дипломатические отношения с Ираном, а Конгресс готовит поправку, по которой Президент Буш сможет вводить санкции против компаний, которые инвестировали более 20 млн. долларов в нефтегазовую отрасль Ирака.
Аналогичную позицию занимает администрация США и по отношению к другим странам и энергетическим проектам, не укладывающимся в ее сверхдержавное видение мира. Так, когда между Ираном, Пакистаном и Индией в прошлом году начались переговоры по крупному взаимовыгодному проекту строительства газопровода, а Россия вызвалась содействовать его сооружению, администрация США, крайне негативно воспринявшая этот проект, пошла на беспрецедентные шаги. Во время визита Президента Буша в Индию в этом году было заключено соглашение о сотрудничестве с США в области мирного атома. (И это несмотря на то, что Индия, не присоединившаяся к Договору о нераспространении, де-факто стала обладательницей ядерного оружия.) После этого переговоры о строительстве газопровода Иран — Пакистан — Индия фактически застопорились. Еще пример: США оказывают постоянное давление на ряд стран (Таиланд, Индия), азиатских и западных компаний (например, французскую «Тоталь»), участвующих в разработке месторождений природного газа в Мьянме, встречая, впрочем, упорное сопротивление. Одним словом, Соединенные Штаты откровенно, можно сказать агрессивно, стремятся навязать по всему земному шару свой контроль над мировыми энергетическими рынками, используя для этого все средства — дипломатические, военно-политические и торгово-экономические. Это навязчивая демонстрация своего сверхдержавного поведения не имеет ничего общего с декларируемой заботой о национальной и энергетической безопасности, а для многих союзников США оборачивается даже усугублением реальной угрозы энергетической безопасности. Такая однобокая нацеленность внешней политики США, несмотря на частичные и временные успехи, в целом в формирующемся многополярном мире не имеет долгосрочную перспективу, так как идет вразрез с интересами национальных государств, национального бизнеса во многих союзнически настроенных по отношению к США странах и даже целого ряда нефтегазовых majors и supermajors, более прагматически оценивающих современные реалии.*
* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 06-02-02040а.
1 Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 2001, с. 56.
2 Там же, с. 404.
3 Там же, с. 430.
4 Время новостей, 3 ноября 2006.
5 Ведомости, 16 июля 2007.
Бакинская нефтяная промышленность до и после отмены откупной системы
Орхан МАМЕД-ЗАДЕ
В Азербайджане нефть была известна еще с древнейших времен. В XIII веке Марко Поло, известный венецианский купец упоминает, что нефть вывозилась из Баку на верблюдах вплоть до Багдада и использовалась в качестве осветительного материала. Он также приводил сведения об одном большом нефтяном фонтане, который в течении одного часа выбрасывал столько нефти, что «ею можно было погрузить до ста судов».
Немецкий ученый Лерхе, посетивший в 1735 году пишет: «В Балаханах (селение, расположенное в 15 км от Баку – Прим. автора) было 52 нефтяных колодца. Нефть из этих колодцев возят в Баку на арбах в больших кожаных мешках».
До присоединения Азербайджана к России, бакинские ханы пользовали нефть как источник собственных доходов, сдавая нефтяные колодцы на откуп. При этом общая добыча нефти всех колодцев составляла 100…200 тыс. пудов в год.
Еще в 1723 году, Российский царь Петр Великий, одним из важных пунктов развития торговли с Востоком предусматривал нефтяные источники.
После окончательного присоединения Азербайджана к России Казенная экспедиция в Грузии, представлявшая российское правительство на Кавказе выдавала бакинские нефтяные колодцы на откупное содержание. Доход от откупа в размере порядка 130 тыс. рублей в год поступало в российскую казну.
В условиях откупной системы нефтяные колодцы переходили из рук в руки и это не давало возможности ни увеличению доходов казны, ни расширению нефтяного дела. Так как откупщики получали в пользование нефтяные колодцы сроком на 4 года, то поэтому они пытались по возможности больше добыть нефть и совсем не были заинтересованы расширять производство путем вложения капитала.
В 1825 году была отменена откупная система и добыча нефти полностью перешла в казенное управление. Но и это не привело к увеличению доходов казны, а напротив способствовало снижению их до 76 тыс. рублей, то есть почти в 2 раза меньше. Поэтому российским правительством опять-таки было отдано предпочтение откупной системе, которая просуществовала вплоть до 1872 года. К этому времени число нефтяных колодцев достигло 415 с общей производительностью 1 млн 400 тыс. пудов. Однако нефть по-прежнему добывалась примитивным способом, откупщики по-прежнему не были заинтересованы в расширении производства, усовершенствовании и рационализации ведения дела, а ограничивались всего лишь увеличением числа колодцев.
В 1830 году Рейнбаху в Германии удалось получить жидкий осветительный продукт, названный фотогеном. Фотоген получался путем перегонки древесных, торфяных и других органических материалов и благодаря своей дешевизне повсюду стал вытеснять растительные масла и восковые свечи, которые были в то время единственными источниками света.
В 1832 году в Бургундии был впервые построен небольшой завод по производству осветительного продукта – фотогена. Развитие фотогенного производства шло весьма успешно. За короткий промежуток времени в Европе было построено достаточно большое количество заводов по производству фотогена. Широкая популярность фотогена возродила неудачные попытки перегонки нефти в 1823 году на Северном Кавказе крепостными графини Паниной братьев Дубининых и привела к мысли о возможности получения фотогена путем перегонки нефти. Эта возможность, получения фотогена из нефти, была использована американцами, и в 1860 году фотоген под названием керосин стал появляться на европейских рынках. Успех на европейских рынках способствовало поступлению американского керосина и на Российский рынок. Так в 1864 году в Россию было завезено 189,1 тыс. пудов керосина, в 1869 г. – 1099,5 тыс. пудов, а в 1872 г – 1790,3 тыс. пудов. Сумма выручки за поставленный керосин составила 35 млн рублей.
В 1863 году в Баку местным предпринимателем Джавадом Меликовым был построен первый керосиновый завод. Для строительства керосинового завода Джавад Меликов сформировал товарищество с небольшим капиталом в 300 рублей. Потребность в дешевом осветительном продукте давало возможность развитию керосинового производства. В дальнейшем, при финансовой поддержке нефтедобытчика Мирозоева, Джаваду Меликову удалось построить керосиновый завод и в Грозном.
Благодаря высоким ценам на керосин, вслед за Меликовым были построены заводы по переработке нефти и другими предпринимателями. Число заводов в течении 10 лет со дня основания первого завода достигло 23-х с общим объемом производства до полумиллиона пудов в год.
Развитие керосинового производства и расширение рынка сбыта его способствовало увеличению добычи нефти в Баку. По данным литературных источников конца XIX века, с начала развития керосинового производства нефтедобыча в Баку за несколько лет (рис. 1) увеличилась почти в 3 раза.
Первоначально Бакинская нефть экспортировалась на Российские рынки, вытесняя американский керосин. Так по данным таможенной конторы из Бакинского порта за четыре года, с 1869 по 1872 год, было вывезено более 1200 тыс. пудов керосина (рис. 2).
Дальнейшая потребность в нефти привела к необходимости бурении новых нефтяных скважин, а стало быть, и вложений новых инвестиций в нефтяную промышленность. Однако существовавшая откупная система не давала такой возможности. Несмотря на все увеличивающуюся потребность на нефть, с 1821 по 1872 год доходы казны едва ли достигали полумиллиона рублей. В связи с этим в Петербурге под председательством герцога Лейхтенберского была учреждена комиссия для рассмотрения вопроса о развитии нефтяного промысла. Эта комиссия, одним из членов которой, был всемирно известный химик Дмитрий Иванович Менделеев, отметила, что действующая откупная система не дает возможности развития предпринимательства в условиях свободной конкуренции и высказалась за отмену откупной системы как тормозящей развитие нефтяного промысла. В решении комиссии было отмечено: «Уничтожением откупа правительство открывает огромное выгодное поприще для частной промышленности. В обязанности правительства должно лежать главнейше только удаление всех экономических препятствий на пути развития какого бы то ни было промысла. Остальное будет зависеть от умения частных лиц взяться за дело и их предприимчивости».
Рис. 1. Добыча нефти в 1863…1867 гг.
С 1 января 1873 года вступили в действие «Правила о нефтяном промысле и акциз с фотогенного производства». Таким образом, откупная система была отменена и нефтяная промышленность была объявлена свободной. Необходимо отметить, что за весь период существования откупной системы, то есть за 40 лет, было добыто 17 млн пудов нефти. После же отмены откупной системы за первые десять лет было уже добыто 1800 млн пудов, то есть более чем в 100 раз за период менее, чем в 4 раза.
Рис. 2. Добыча нефти в 1869…1872 гг.
Одновременно с отменой откупной системы был установлен акциз с керосина, составлявший 25 коп. на один пуд готового продукта переработки. Фактически же средний акцизный сбор составил за неполных 5 лет составил 12 коп. на один пуд. Сведения об акцизном сборе приведены в таблице.
Таблица 1
Производство керосина и акцизные поступления
| Года | Производство керосина, тыс. пудов |
Акцизные поступления, тыс. рублей |
Средний акцизный сбор на 1 пуд керосина, рублей |
| 1873 | 832,8 | 203,6 | 0,244 |
| 1874 | 1336,7 | 280,2 | 0,210 |
| 1875 | 1990,0 | 210,8 | 0,106 |
| 1876 | 3145,1 | 299,3 | 0,095 |
| на 1 сентября 1877 | 3104,8 | 252,0 | 0,081 |
| Итого | 10409,4 | 1245,9 | 0,120 |
Хотя такой акциз не был обременителен для производителей, но все же из-за исключительного фискального надзора государственных чиновников в какой-то степени тормозил развитие заводской техники. Каждую попытку внедрения новой техники в производство керосина чиновники фискального надзора воспринимали как попытку уклонения от акцизных платежей. Так например, «Нефтяное товарищество бр. Нобель» с целью получения смазочных масел из нефти, завезла из-за границы перегонный аппарат системы Мартена с подогревателем для выделения из нефти летучих продуктов. Но акцизное управление увидела в этом подогревателе второй куб и поэтому предложило или исключить подогреватель из технологической цепи и гнать керосин по обычному методу, или платить двойной акциз. Из-за такого подхода фискального управления «Нефтяное Товарищество бр. Нобель» было вынуждено перегонять керосин обычным способом на дорогостоящем аппарате.
Такое отношение, естественно, тормозило внедрение новой техники для усовершенствования процесса перегонки керосина, и поэтому бакинский керосин уступал по качеству американскому. Однако, несмотря на это бакинскому керосину все же удалось вытеснить американский керосин с российского рынка. На диаграмме (рис. 3) показана динамика поступления американского и бакинского керосина на российский рынок.
Рис. 3. Поступления американского и бакинского керосина
К середине семидесятых годов в результате ускоренного роста добычи нефти в Европе и в Америке разразился керосиновый кризис. На Европейских рынках цены на американский керосин стал резко падать. Керосиновый кризис затронул и бакинскую нефтяную промышленность. Резкое снижение цен на керосин привело к дефициту свободных финансовых средств. Большое количество заводов, стиснутых к тому же и акцизной системой, вынуждены были закрыться. По предложению бакинского губернатора Старосельского нефтепромышленники избрали комиссию под председательством М.А. Беккендорфа для выяснения сложившейся ситуации. В результате проведенного анализа комиссия отметила, что одной из важных причин кризиса является неравномерное распределение акциз между заводчиками, особо подчеркнув при этом, что существующая акцизная система делает невозможным какие бы то ни было технические усовершенствования в заводской технике и вдет к сокращению производства керосина. Основным выводом комиссии было уничтожение акцизного сбора на бакинский керосин. К этому мнению присоединилось и кавказское отделение Русского технического общества, которое также видело одной из важных причин кризиса в акцизной системе. В результате этих анализов причин кризиса министерство финансов признало акциз бесполезной фискальной мерой и вредной для развития промышленности и с 1 сентября 1877 года отменило акциз на керосин. Бакинская нефтяная промышленность вступила в свою новую фазу бурного развития. И хотя казна теряла ежегодно 250…300 тыс. рублей акцизного сбора, дальнейшее развитие нефтяной промышленности сполна компенсировала эту потерю.
Об авторе:
Мамед-заде Орхан Али-Ашраф оглы, к.т.н.,
доцент кафедры «Детали машин» Азербайджанской государственной нефтяной академии.
370009, Баку, ул. Гаджиева 42а, кв. 22, телефон 94-4772
e-mail: galkhan@azintex.com
Дата публикации:
24 февраля 2002 года
Дэниел Ергин
Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть
«Ореховые деньги»
Среди наиболее перспективных рынков для «нового света» была огромная Российская империя, в которой как раз начинался период индустриализации, и искусственное освещение имело колоссальное значение. Санкт-Петербург, столица империи, был расположен так далеко на севере, что в зимнее время световой день составлял всего шесть часов. Американский керосин появился в России еще в 1862 г. и быстро вошел в широкий обиход в Санкт-Петербурге, где керосиновые лампы сразу же вытеснили сальные свечи, от которых население целиком зависело. Консул Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге радостно сообщал в своем отчете в декабре 1863 г., что можно «с полной уверенностью на несколько лет вперед рассчитывать на ежегодно растущий спрос на керосин из Соединенных Штатов». Но в своих расчетах он не мог учесть, что в одной из отдаленных частей Российской империи произойдут события, которые не только воспрепятствуют продвижению американской нефти на российский рынок, но и послужат предвестником краха глобальных планов Рокфеллера.
В течение многих столетий на безводном Апшеронском полуострове, «отростке» Кавказских гор, выдающемся далеко в окруженное сушей Каспийское море, отмечались выходы нефти на поверхность. В XIII в. Марко Поло записал услышанные им сведения об источнике в районе Баку, который давал непригодное для пищи масло, которое при этом «годилось для поддержания огня», а также использовалось как средство от чесотки верблюдов. Баку был территорией, где находились «вечные столбы огня», обожествляемого зороастрийцами. Эти столбы были, выражаясь прозаически, результатом воспламенения газа, сопутствующего месторождениям нефти и выходящего на поверхность через трещины в пористом известняке.
Баку был частью независимого ханства, присоединенного к Российской империи лишь в самом начале XIX столетия. К тому времени там уже начала формироваться примитивная нефтепромысловая промышленность, и в 1829 г. в этом районе насчитывалось 82 вырытых вручную колодца. Но объем добычи был мизерным. Развитие индустрии серьезно ограничивалось отсталостью региона, его удаленностью, а также продажностью, деспотизмом и некомпетентностью царской администрации, которая управляла нефтяной промышленностью в рамках государственной монополии. Наконец в начале 1870-х гг. российское правительство отменило монополию и открыло регион для конкурирующих частных предприятий. Итогом этого стал настоящий взрыв предпринимательской активности. Время вырытых вручную колодцев закончилось. Первые скважины были пробурены в 1871–1872 гг., а в 1873-м действовало уже более 20 мелких нефтеперегонных заводов.
Примерно в это же время в Баку прибыл химик по имени Роберт Нобель. Он был старшим сыном Эммануэля Нобеля, талантливого шведского изобретателя, эмигрировавшего в 1837 г. в Россию, где военная верхушка одобрительно приняла его изобретение – подводную мину. Эммануэлю удалось создать крупную промышленную компанию, которая потерпела крах, когда российское правительство в очередной раз решило производить закупки за рубежом, а не в России. Один из его сыновей, Людвиг, построил на обломках отцовского предприятия новую компанию – крупный оружейный концерн. Он также разработал «колесо Нобеля», специально приспособленное для разбитых российских дорог. Другой сын, Альфред, талантливый химик и финансист, обративший, по совету своего санкт-петербургского учителя, внимание на проблему нитроглицерина, создал всемирную динамитную империю, которой он управлял из Парижа. Но Роберту, старшему сыну, не удалось добиться такого успеха. Его многочисленные предприятия терпели неудачу, и он был вынужден вернуться в Санкт-Петербург, чтобы работать на брата Людвига.
Людвиг получил крупный контракт на производство винтовок для российского правительства. Для ружейных лож ему нужно было дерево, и в поисках поставщика ореховой древесины на внутреннем рынке он послал Роберта на юг, на Кавказ. В марте 1873 г. путешествие привело Роберта в Баку. Хотя в то время город был крупным многоязычным центром торговли между Западом и Востоком, он по-прежнему оставался частью Азии со своими минаретами и старинной мечетью персидских шахов, а его население составляли татары, персы и армяне. Но нефтеразработки уже внесли в жизнь региона большие изменения, и Роберт сразу же по прибытии в Баку заразился «нефтяной лихорадкой». Не посоветовавшись с братом (все-таки он был старше и, следовательно, имел некоторые привилегии), Роберт взял 25 000 рублей, «ореховые деньги», которые Людвиг выдал ему на покупку древесины, и приобрел на них небольшой нефтеперегонный завод. Так Нобели занялись нефтяным бизнесом[40].
Подъем российской нефтепромышленности
Роберт сразу же приступил к модернизации и повышению производительности нефтеперегонного завода, купленного им на деньги Людвига. Получив от брата дополнительные средства, он стал самым квалифицированным нефтепереработчиком в Баку. В октябре 1876 г. первая партия «осветительного масла» с завода Нобеля была поставлена в Санкт-Петербург. В то же время в Баку приехал и Людвиг, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Обладая опытом работы в имперской системе, Людвиг завоевал доверие великого князя, брата царя и наместника на Кавказе. При этом Людвиг Нобель был крупным промышленником, способным на разработку плана рокфеллеровского масштаба. Он проанализировал каждую составляющую нефтяного бизнеса и, насколько это было возможно, ознакомился с американским опытом. Для повышения производительности и прибыльности он использовал достижения науки, изобретения, а также методы бизнес-планирования и лично возглавил предприятие. За какие-то несколько лет российская нефть не только завоевала внутренний рынок, но даже на какое-то время вытеснила с него американскую, а швед Людвиг Нобель стал «нефтяным королем Баку».
Серьезной проблемой была транспортировка на дальнее расстояние. Нефть перевозилась из Баку в деревянных бочках по очень длинному маршруту – судами 600 миль на север по Каспийскому морю до Астрахани, затем перевалка на баржи и долгое путешествие вверх по Волге, где в том или ином пункте пересечения с железной дорогой бочки перегружались в вагоны и отправлялась дальше. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы были высоки. Да и сами бочки стоили немало. Местных запасов древесины не хватало, и ее приходилось доставлять из удаленных уголков империи либо импортировать из Америки, или же в ход шли подержанные американские бочки, закупавшиеся в Западной Европе. Людвиг нашел решение проблемы транспортировки, которое имело далеко идущие последствия. Оно заключалось в перевозке нефти «наливом», т. е. в трюмах судов.
Эта идея имела много преимуществ, но на практике возникали серьезные проблемы балласта и безопасности. Капитан судна, потерпевшего крушение при перевозке нефти наливом, объяснял: «Трудность в том, что нефть более текуча, чем вода, а при сильной качке, когда судно погружалось носовой частью, нефть устремлялась вниз и судно еще больше зарывалось в волны». Людвиг и здесь нашел решение проблемы балласта и построил первый нефтеналивной танкер «Зороастр», который был спущен на воду в 1878 г. в Каспийском море. В середине 1880-х гг. концепция Людвига прошла проверку и в Атлантике, что вызвало настоящую революцию в транспортировке нефти. Тем временем Людвиг прилагал все усилия к тому, чтобы его бакинский нефтеперегонный завод был в числе самых передовых и технически оснащенных в мире. В его компании впервые в практике нефтедобычи была введена штатная должность геолога-нефтяника.
Крупный интегрированный нефтяной концерн, созданный Людвигом, вскоре завоевал практически весь рынок российской нефти. Присутствие нефтеперерабатывающего товарищества «Братья Нобель» ощущалось на всей территории империи: скважины, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры, баржи, хранилища, собственная железная дорога, розничная сбытовая сеть и многонациональная рабочая сила, к которой относились значительно лучше, чем к любой другой группе рабочих в России, и которые гордо называли себя «нобелевцами». Быстрый рост нефтяной империи Людвига Нобеля в течение первого десятилетия ее существования признавался «одним из величайших триумфов предпринимательской деятельности XIX в.»[41]
Объем добычи сырой нефти в России, составлявший в 1874 г. 600 000 баррелей, десятилетие спустя достиг 10,8 млн, что равнялось почти трети от объема добычи в Америке. В начале 1880-х гг. в новом промышленном пригороде Баку, который имел весьма подходящее название – Черный город, действовало около 200 нефтеперерабатывающих заводов. Над ними постоянно висело плотное облако темного, зловонного дыма, и один из визитеров сравнил жизнь в Черном городе с «отсидкой в дымоходе». Такой была развивающаяся отрасль, в которой господствовали Нобели. Принадлежавшая им компания производила половину всего керосина в России, и они с воодушевлением сообщали акционерам, что «к настоящему времени американский керосин будет почти полностью вытеснен с российского рынка».
Но компания страдала от разногласий между самими братьями Нобелями. Роберт обиделся на Людвига за то, что тот вторгся на его территорию, и в конце концов уехал в Швецию. Людвиг был по натуре организатором, постоянно искал способы расширения дела, и поэтому компания «Братья Нобель» регулярно испытывала недостаток оборотного капитала. Альфред, памятуя о том, что их отец потерпел крах из-за непомерного расширения и невыполнимых обязательств, был значительно осторожнее. «Главный недостаток в том, – ворчал Альфред на Людвига, – что ты сначала что-то организуешь, а затем рыщешь в поисках необходимых средств». Он посоветовал Людвигу пустить акции компании в обращение на фондовом рынке в целях привлечения дополнительного капитала. В ответ Людвиг порекомендовал Альфреду «бросить спекуляции, потому что это дурное занятие и его нужно оставить тем, кто не пригоден к настоящей работе». Несмотря на разногласия, Альфред оказал брату существенную помощь как собственными деньгами, так и договоренностью о предоставлении кредитов, в том числе и от банка Crédit Lyonnais. Эта сделка создала важный прецедент – то был первый случай, когда кредит выдавался под обеспечение еще не добытой нефти.
Если на просторах Российской империи компания «Братья Нобель» практически монополизировала сбыт нефти, то за границами России она не воспринималась в качестве конкурента. Географическое положение ограничивало ее пределами империи. Например, для того чтобы попасть на Балтийское море, было необходимо преодолеть «2000 миль по западной части России то по внутреннему водному пути, то по железной дороге». Ситуация усугублялась еще и тем, что суровые зимние условия делали невозможной транспортировку нефти по Каспию с октября по март, в результате чего многие нефтеперерабатывающие предприятия просто закрывались на полгода. Даже внутри империи некоторые районы оставались труднодоступными – например, было дешевле импортировать керосин в Тифлис из Америки за 8000 миль, чем доставлять его из Баку, что был на расстоянии 341 мили к востоку.
Кроме того, существовали ограничения и на самом российском рынке: освещение было далеко не самой насущной потребностью широких слоев крестьянства, да они и не могли позволить себе такую роскошь. Непрерывный рост объемов добычи заставлял бакинских нефтепромышленников настойчиво искать рынки сбыта за пределами империи. В поисках альтернативы северному маршруту, монополизированному Нобелями, два других нефтепромышленника – Бунге и Палашковский – добились согласия правительства на строительство железной дороги из Баку на запад через Кавказ к Батуму, порту на Черном море, который был включен в состав России в 1877 г. в результате войны с Турцией. Но в самый разгар строительства цены на нефть упали, и Бунге с Палашковским остались без средств. Они оказались в отчаянном положении.
Помощь пришла от Ротшильдов, французской ветви семьи, которая имела опыт финансирования не только правительств, войн и различных отраслей промышленности, но и строительства нескольких европейских железных дорог. Семья владела нефтеперерабатывающим заводом в Фиуме, на побережье Адриатического моря, и поэтому была заинтересована в покупке дешевой российской нефти. Они выделили средства на завершение строительства железной дороги, начатого Бунге и Палашковским, в обмен на закладные их нефтяного бизнеса в России. Ротшильды также договорились о гарантированных поставках российской нефти в Европу по выгодным для них ценам.
Тот период истории России характеризовался крайним антисемитизмом. В 1882 г. императорским указом евреям было запрещено арендовать землю или владеть ею в пределах империи. Но все-таки Ротшильды были самыми известными евреями в мире – по отношению к ним указ, конечно, силы не имел. Российской нефтью занимались парижские Ротшильды. В первую очередь речь идет о бароне Альфонсе, организовавшем выплату репараций после поражения в войне с Пруссией в 1871 г. и считавшемся одним из наиболее информированных людей в Европе и обладателем самых лучших усов на континенте, а также о его младшем брате бароне Эдмоне, который финансировал переселение евреев в Палестину. Кредит, предоставленный Ротшильдами, позволил закончить строительство железной дороги из Баку в 1883 г., что почти сразу же превратило Батум в один из крупнейших нефтяных портов в мире. В 1886 г. Ротшильды образовали «Батумское нефтепромышленное и торговое общество», известное впоследствии лишь по его русской аббревиатуре БНИТО. Они построили в Батуме нефтехранилища и организовали точки сбыта. «Братья Нобель» быстро последовали их примеру. Железная дорога Баку – Батум открыла российской нефти дорогу на Запад, вследствие чего развернулась ожесточенная тридцатилетняя борьба за мировые нефтяные рынки[42].
Вызов рокфеллеру
С появлением на арене Ротшильдов Нобели внезапно столкнулись с крупным конкурентом, который вскоре занял второе место в России по объемам нефтедобычи. Хотя эти конкуренты и обсуждали возможности объединения, на деле у них не было ничего общего, кроме изъявления дружественных намерений, и соперничество между ними оставалось напряженным. Но имелись и другие конкуренты, чьи намерения были откровенно враждебны. Standard Oil не могла себе позволить проигнорировать российскую нефтяную индустрию. Российский керосин конкурировал теперь с американским «осветительным маслом» во многих странах Европы. В ответ на это в Standard Oil ускорили процесс сбора информации о зарубежных рынках и новых конкурентах. На Бродвей, 26, стали поступать сообщения со всего мира, в том числе и от некоторых американских консулов, состоявших на содержании у Standard. Данные разведки были тревожны. Standard больше не могла беспечно полагаться на свое подавляющее превосходство.
Руководство Standard Oil понимало, что царское правительство никогда не позволит ей целиком выкупить предприятие Людвига Нобеля. Но вместо этого можно было попытаться приобрести крупный пакет акций Нобеля, сохранив при этом неоценимого Людвига на посту руководителя точно так же, как в свое время были сохранены лучшие из конкурентов, выкупленные Standard в Соединенных Штатах. В 1885 г. переговоры с Нобелями в Санкт-Петербурге начал главный дипломат Standard и посол по особым поручениям У. Либби. Людвиг Нобель не проявил заинтересованности. Напротив, он сосредоточил усилия на укреплении своей сбытовой сети и увеличении объемов продаж в Европе. У него не было выбора. Стремительный рост объемов нефтедобычи в России заставил Нобеля и других российских нефтепромышленников искать новые рынки сбыта за пределами империи. В Баку забили фонтанами крупные скважины, которым дали такие имена, как «Кормилица», «Золотой базар» или «Чертов базар». Одна из них с названием «Дружба» била на протяжении пяти месяцев с дебитом 43 000 баррелей в день, причем большая часть нефти терялась. К 1886 г. действовало уже 11 фонтанирующих скважин, а вскоре к ним прибавились новые на только что открытом месторождении. Всего за период с 1879 по 1888 г. объем нефтедобычи в России увеличился в десять раз, достигнув 23 млн баррелей, т. е. более 4/5 от объема добычи в Америке. На протяжении 1880-х гг. объем добываемой нефти резко возрос, и для нее нужны были новые рынки сбыта.
Столкнувшись с агрессивной сбытовой кампанией, проводимой Нобелем в Европе, глубоко обеспокоенная ростом добычи бакинской нефти, Standard пришла к выводу, что от слов пора переходить к делу. В ноябре 1885 г. она снизила цены на европейских рынках – подобно тому как это было в ходе конкурентной борьбы в Соединенных Штатах. Агенты компании на местах стали распространять в европейских странах слухи о низком качестве и опасности российского керосина. Кроме того, они прибегли к саботажу и подкупу. Несмотря на яростное наступление Standard, Нобель и Ротшильды наносили мощные контрудары и добивались успеха, а руководители Standard с ужасом наблюдали за тем, как область, которую они назвали «Зона русской конкуренции», расползалась по карте[43].
Некоторые члены исполнительного комитета Standard предлагали для более динамичного сбыта продукции и для повышения конкурентоспособности создать за рубежом собственные торговые компании, а не пользоваться услугами местных независимых посредников. Более того, приход нефтеналивных танкеров вывел нефтяной бизнес на совершенно иной уровень затрат. Сам Джон Рокфеллер, рассерженный медленным принятием решений в исполнительном комитете, даже написал в 1885 г. ворчливое стихотворение:
Мы не сони старые и должны крепиться,
Вызов судьбе бросать,
Верить, надеяться, трудиться
И ждать.
В 1888 г. Ротшильды пошли на очередное обострение конкурентной борьбы – они организовали собственные компании по импорту и сбыту нефтепродуктов в Британии. «Братья Нобель» поступили точно так же. Это побудило к действию Standard, которая наконец организовала первый зарубежный филиал – Anglo-American Oil Company всего через 24 дня после официального открытия нового предприятия Ротшильдов в Британии. Плюс ко всему и на континенте были организованы новые дочерние фирмы – предприятия, которыми Standard владела совместно с крупными местными сбытовиками. Standard Oil превратилась в настоящую многонациональную корпорацию.
Но конкурентов остановить так и не удалось. Ротшильды ссужали деньгами мелких российских нефтепромышленников в обмен на гарантии поставок нефти по выгодным для себя ценам. На железной дороге Баку – Батум были постоянные заторы: 78-мильный отрезок пути через горный хребет высотой 3000 футов был настолько тяжелым, что одновременно по нему можно было провести лишь полдюжины вагонов. В 1889 г. «Братья Нобель» завершили прокладку через горы трубопровода протяженностью 42 мили. Исход дела решило применение 400 т альфредовского динамита. С наступлением новой эры, которую посол Standard по особым поручениям Либби прозвал «коммерцией в условиях конкуренции», доля Америки в мировой торговле «осветительными маслами» упала с 78 % в 1888 г. до 71 % в 1891-м, тогда как доля России выросла с 22 до 29 %.
Все новые и новые фонтаны били на богатом бакинском месторождении, поток нефти все увеличивался. Но в российской нефтяной индустрии произошло одно важное изменение. Несмотря на то что терпение Людвига Нобеля и решимость противостоять вечным трудностям оставались неизменными, здоровье его было подорвано. В 1888 г. во время отпуска на Французской Ривьере «нефтяной король Баку» умер от сердечного приступа в возрасте 57 лет.
Некоторые европейские газеты перепутали братьев Нобель и сообщили о смерти Альфреда. В этих преждевременных некрологах Альфред, к своему огорчению, нашел много осуждающих слов о том, что он был фабрикантом оружия, «динамитным королем», торговцем смертью, нажившим огромное состояние за счет создания новых способов калечить и убивать людей. Он много размышлял над этими некрологами-осуждениями и в конце концов переписал свое завещание, учредив премию, которой должны удостаиваться лучшие достижения человеческой мысли и деятельности, что в свою очередь увековечит его имя[44].
Сын торговца раковинами
Тем временем растущий поток российского керосина из Батума требовал дополнительных рынков сбыта. Что касается Нобелей, то они крепко держали в руках внутрироссийский рынок. Но для других, в особенности для Ротшильдов, проблемы сбыта усугублялись с каждым годом. Ротшильдам каким-то образом нужно было обойти Standard Oil и выйти на мировой рынок. Особый интерес они проявляли к Азии, где жили сотни миллионов потенциальных потребителей «нового света». Но как быть с доставкой?
У парижских Ротшильдов в Лондоне был свой человек – маклер по фрахтованию судов по имени Фред Лейн, который защищал их нефтяные интересы, и они поделились с ним своими проблемами. Имя Лейна никогда не было знакомо широкой публике, но при этом он был одним из пионеров нефтяного бизнеса. Это был крупный, дородный человек, обладавший большим умом и славившийся талантом завоевывать друзей и выступать посредником. Он стремился подкреплять своим капиталом дружеские отношения и деловые союзы, что нередко было одним и тем же. «Посредник высшего класса», он позднее получил прозвище «Шейди[45] Лейн», и не потому, что был жуликоват, а потому, что порой в одной и той же сделке он представлял интересы стольких сторон, что становилось непонятно, на кого же он все-таки работает.
Лейн был настоящим экспертом в области судоходства и имел готовое решение проблемы, стоявшей перед Ротшильдами. Просто он знал некоего торговца по имени Маркус Сэмюель и познакомил с ним Ротшильдов. В результате родился дерзкий план, который мог не просто решить проблему российской нефти, но и совершить настоящий переворот, удачный исход которого ослабил бы железную хватку Рокфеллера и Standard Oil в мировой торговле керосином.
К концу 1880-х гг. Маркус Сэмюель уже имел определенный вес в деловых кругах Лондона. Это было большое достижение для еврея, выходца не из старинной сефардской семьи, а из Ист-Энда, потомка иммигрантов, прибывших в Британию в 1750 г. из Голландии и Баварии. У Маркуса Сэмюеля было такое же имя, как и у отца, что очень странно для религиозного еврея. Маркус Сэмюель-старший начал карьеру с торговли в лондонских доках, где скупал редкостные вещицы у возвращавшихся из плавания моряков для последующей перепродажи. Во время переписи 1851 г. он назвался «торговцем раковинами»: среди товаров, пользовавшихся наибольшим спросом, были маленькие покрытые морскими раковинами шкатулки, известные как «подарок из Брайтона», которые раскупались девушками, приезжавшими на морские курорты в викторианские времена. В 1860-е гг. Маркус-старший уже сколотил небольшой капитал и помимо морских раковин ввозил всякую всячину – от страусиных перьев и тросточек до мешков с перцем и слитков олова. Он также экспортировал большой ассортимент промышленных товаров, в том числе механические ткацкие станки для Японии. Кроме того – что впоследствии оказалось очень важным для его сына, – старший Сэмюель установил доверительные отношения с крупными британскими торговыми домами, которыми по большей части владели выходцы из Шотландии, – в Калькутте, Сингапуре, Бангкоке, Маниле, Гонконге и других уголках Восточной Азии.
Младший Маркус родился в 1853 г. и в 1869-м, в возрасте 16 лет, после обучения в Брюсселе и Париже он поступил к отцу в бухгалтерию. В это время в Америке Джон Рокфеллер, который был старше Сэмюеля на 14 лет, начал десятилетнюю кампанию по объединению нефтяной индустрии. Во всем мире новые технологии радикально меняли международную деловую жизнь. В 1869 г. был открыт Суэцкий канал, что сократило маршрут путешествия в Восточную Азию на 4000 миль. На смену парусникам пришли пароходы. В 1870 г. была завершена прокладка прямого телеграфного кабеля, соединившего Англию с Бомбеем, а вскоре после этого в телеграфную сеть были включены Япония, Китай, Сингапур и Австралия. Впервые весь мир был объединен в единую сеть связи посредством телеграфных проводов. Месяцы ожидания и неизвестности ушли в прошлое – доступность информации в короткие сроки стала повсеместной. Судоходство больше не было рискованным предприятием, и появилась возможность заключать сделки заранее. Всеми этими новшествами Маркус Сэмюель-младший воспользуется для приумножения своих богатств.
После смерти отца Маркус вместе со своим братом Сэмюелем Сэмюелем расширил торговую деятельность. В течение нескольких лет Сэмюель Сэмюель жил в Японии, и у братьев было две фирмы – M. Samuel & Co. в Лондоне и Samuel Samuel & Co. в Иокогаме, которая позднее переехала в Кобе. Братья сыграли важную роль в индустриализации Японии, а тридцатилетний Маркус сколотил свой первый капитал именно на торговле с этой страной. Братья распространили деятельность на всю Восточную Азию, причем в сотрудничестве с теми торговыми домами, с которыми еще их отец наладил дружественные отношения. В то время Маркус и Сэмюель Сэмюель были единственными британскими евреями, успешно торговавшими на Востоке.
Маркус Сэмюель всегда был истинным торговцем, генератором идей, а Сэмюель Сэмюель, который был на два года моложе, – верным его сторонником и закадычным другом. Характер у Маркуса был более сложным, и с годами на смену обаянию приходила некая отстраненность, которая, похоже, была всего лишь маской. Небольшого роста, крепко сбитый, с густыми бровями, он обладал совершенно не располагающей наружностью. Ему была присуща проницательность, и при необходимости он становился предприимчивым, изобретательным, легким на подъем и целеустремленным. Говорил очень тихо, иногда едва слышно, заставляя своих собеседников напрягать слух, что делало его еще более убедительным. Он внушал людям такое доверие, что на протяжении двух десятилетий получал кредиты не у банкиров, а у уже упоминавшихся шотландских торговцев в Восточной Азии. Маркусу было мало просто нажить состояние. Он горел желанием занять определенное положение в обществе. Являясь аутсайдером как еврей из лондонского Ист-Энда, он направил всю свою кипучую энергию на то, чтобы добиться признания в высших сферах британского общества.
Сэмюель Сэмюель, в противоположность брату, был человеком сердечным, щедрым, общительным, но при этом всегда и всюду опаздывал. Он обожал глупые загадки, некоторым из которых было полвека и более. Гостю, пришедшему на обед в погожий день, Сэмюель говорил: «Прекрасный день для забега[46]». – «Какого забега?» – «Человеческой расы», – отвечал Сэмюель торжествующе.
Маркус не придавал большого значения антуражу – по правде сказать, даже откровенно им пренебрегал. Его маленький офис был расположен на Хаундсдич в Ист-Энде, тут же находился склад, заваленный до потолка японскими вазами, импортной мебелью и шелками, морскими раковинами и перьями, разными другими безделушками и редкими вещицами. От скоропортящегося товара избавлялись сразу же по его доставке. Персонала у Маркуса было, мягко выражаясь, немного, а проще сказать, вообще не было. Капитал был небольшой, и он целиком зависел от товарных кредитов восточноазиатских торговых домов. Маркус также использовал торговые дома как своих заграничных агентов, экономя таким образом на организационных и административных расходах. Для фрахта судов он пользовался услугами маклерской фирмы Lane & McAndrew, старшего партнера которой Фреда Лейна можно было часто встретить в тесном офисе, принадлежавшем фирме M. Samuel & Co.[47]
40. Giddens, Birth of the Oil Industry, p. 99 («safe to calculate»); Robert W. Tolf, The Russian Rockefellers: The Saga of the Nobel Family and the Russian Oil Industry (Stanford: Hoover Institution Press, 1976), chaps. l and 2, pp. 41–46 («pillars» and «walnut money»); Boverton Redwood, Petroleum: A Treatise, 4th ed. (London: Charles Griffen & Co., 1922), vol. 1, pp. 3–9 (Marco Polo), 36–46; Forbes, Studies in Early Petroleum History, pp. 154–62; John P. McKay, «Entrepreneurship and the Emergence of the Russian Petroleum Industry, 1813–1883,» Research in Economic History 8 (1982), pp. 63–64.
41. Owen, Trek of the Oil Finders, pp. 4, 150; Tolf, Russian Rockefellers, pp. 108 («Oil King»), 149 («Nobelites»); J. D. Henry, Baku: An Eventful History (London: Archibald, Constable & Co., 1905), pp. 51–52; Williamson and Damn, Age of Illumination, pp. 637–41 («difficulty»), 517; W. J. Kelly and Tsureo Kano, «Crude Oil Production in the Russian Empire, 1818–1919,» Journal of European Economic History 6 (Fall 1977), pp. 309–10; McKay, «Entrepreneurship,» pp. 48–55, 87 («greatest triumphs»).
42. Charles Marvin, The Region of Eternal Fire: An Account of a Journey to the Petroleum Region of the Caspian in 1883, new ed. (London: W. H. Allen, 1891), pp. 234–35 («chimney-pot»); Sidney Pollard and Conn Holmes, Industrial Power and National Rivalry, 1870–1914, vol. 2 of Documents of European Economic History (London: Edward Arnold, 1972), pp. 108–10 («American kerosene»); С. E. Stewart, «Petroleum Field of South Eastern Russia,» 1886, Russia File, Oil, Box C-8, Pearson papers; Tolf, Russian Rockefellers, pp. 80–86 («main point» and «speculation»); Williamson and Daum, Age of Illumination, p. 519 («2000 miles»); Bertrand Gille, «Capitaux Français et Pétroles Russes (1884–94),» Histoire de Enterprises 12 (November 1963), p. 19; Virginia Cowles, The Rothschilds: A Family of Fortune (London: Weidenfeld and Nicolson, 1973), chaps. 7–8; Henry, Baku, pp. 74, 79.
43. Archbold to Rockefeller, August 19, 1884, and July 6, 1886, Archbold folder (1.5.381), Box 51, Business Interests, 1878–1894, R.G. 1.2, Rockefeller archives. Tolf, Russian Rockefellers, pp. 47–48 («fountains»); Nevins, Study in Power, vol. 2, p. 116; Hidy and Hidy, Standard Oil, vol. 1, pp. 138–39 («Russian competition»).
44. Archbold to Rockefeller, July 6, 1886, Archbold folder (1.5.381), Box 51, Business Interests, 1879–1894, R.G. 1.2, Rockefeller archives; Hidy and Hidy, Standard Oil vol. 1, pp. 147–53 (poem and «competitive commerce»); Henry, Baku, p. 116; Tolf, Russian Rockefellers, pp. 96–97, 107–09; Nicholas Halasz, Nobel: A Biography of Alfred Nobel (New York: Orion Press, 1959), pp. 3–5 («dynamite king»), 211–13.
45. Shady (англ.) – ненадежный, жуликоватый. – Прим. пер.
46. Race (англ.) – забег; раса (игра слов). – Прим. пер.
47. Robert Henriques, Marcus Samuel: First Viscount Bearsted and Founder of the ‘Shell’ Transport and Trading Company, 1853–1927 (London: Barrie and Rockliff, 1960), pp. 74–75 («go-between»), 44 («lovely day»). Книга Хенрикса является не только биографией Сэмюеля, но и наиболее полной работой о становлении Shell. Geoffrey Jones, The State and the Emergence of the British Oil Industry (London: Macmillan, 1981), pp. 19–20 («Shady Lane»).
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
На прошлой неделе Министерство природных ресурсов России объявило о том, что, возможно, предъявит претензии всемирно известной компании Royal Dutsh Shell по освоению ею месторождений в России. Причем, как заявил министр Виталий Артюхов, не исключена даже постановка вопроса об отзыве лицензий. Есть у министерства претензии и к некоторым другим крупным иностранным нефтяным корпорациям. Собственно, ничего нового в этом нет: более чем вековая история отношений России и мировых нефтяных гигантов редко когда обходилась без конфликтов. В перипетиях этих столкновений разбирался обозреватель журнала «Деньги» Евгений Жирнов.
Рассказы о русском первенстве
В первые десятилетия своего существования русская нефтепромышленность могла конкурировать с заокеанской только в одном: утверждая, что именно ее представители были первооткрывателями переработки нефти. Отечественные нефтяники верили в свое первенство так же свято, как в то, что все люди ведут свой род от Адама и Евы. В фундаментальном отчете о нефти Союза русских торгово-промышленников в качестве непреложного факта излагалась следующая история: «Первые попытки употребления нефти в промышленности были сделаны в России на Апшеронском полуострове. В 1823 году, то есть десять лет спустя после окончательной аннексии Россией Бакинского ханата, один русский мужик по фамилии Дубинин основал на Кавказе первый нефтеперерабатывающий завод, который был, конечно, построен весьма примитивно, но все же являлся первым в истории промышленным предприятием такого рода».
Завод Дубинина, а вслед за ним аналогичное предприятие инженера Воскобойникова, построенное в 1830 году в окрестностях Баку, выпускал остродефицитный по тем временам керосин. Дело это казалось сверхприбыльным. Пуд нефти обходился первым нефтепромышленникам в 30-40 копеек, а пуд керосина, получавшийся из трех пудов нефти, продавался в Центральной России по 40 рублей. Однако на деле керосиновые производства едва сводили концы с концами. Бесконечная война с кавказскими горцами и отсутствие железных дорог делали доставку продукции в метрополию и завоз всего необходимого в Баку делом весьма проблематичным и дорогим, и потому желающих основывать новые предприятия «на территории, которая… была совершенно некультурной» довольно долгое время не находилось.
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Примитивные способы добычи и транспортировки диктовались прежде всего особенностями законодательства. В участки, арендованные на четыре года, никто не хотел вкладывать средства |
Лишь после окончания Кавказской войны и упрочения русской администрации на вновь приобретенных землях на Апшерон потянулись новые промышленники. Однако и добыча, и нефтепереработка шли ни шатко ни валко. Колодцы рылись вручную на глубину не более 25 метров. Большое количество нефти терялось из-за примитивных способов транспортировки — в бурдюках на верблюдах. А в переработке тяжелой головной болью стала утилизация отхода производства керосина — мазута. Трудно себе представить, но тогда никому не пришло в голову использовать его в качестве топлива. И эту «нефтяную грязь», тратя немалые средства, вывозили за пределы Баку, выливали в ямы и сжигали.
И все же главной проблемой нефтепромышленников были особенности российского законодательства. Добыча нефти была объявлена государственной монополией, и нефтеносные участки передавались в аренду предпринимателям не более чем на четыре года. В итоге в 1850 году из 136 нефтяных источников в Шемаханской губернии было добыто лишь немногим более четырех тысяч тонн нефти, а в 1862 году — 5,4 тыс. тонн из 220 источников.
Настоящее освоение нефтяных месторождений началось лишь полвека спустя после появления на Апшероне мужика Дубинина, когда 1 февраля 1872 года госмонополию на добычу нефти наконец-то отменили. Вместо рытья колодцев началось бурение нефтяных скважин, и ежедневная добыча бакинской нефти выросла с нескольких десятков тонн до нескольких тысяч.
В Баку появились и иностранные инвесторы. В 1874 году швед Роберт Нобель приехал туда для закупки специального сорта дерева, которое требовалось для оружейного завода его брата. Однако соблазн заработать на нефтяном буме оказался слишком силен, и Нобель арендовал участок земли, на котором построил нефтеперерабатывающий завод. Успехи Роберта настолько впечатлили его братьев, что в 1879 году было зарегистрировано «Нефтепромышленное общество братьев Нобель».
За годы своего существования это общество увеличило свой капитал в сотню раз: с 300 тыс. рублей до 30 млн, причем по большей части за счет внедрения новых технологий. Нобели пригласили инженеров и ученых из Галиции, где нефтепромышленность успешно развивалась с середины XIX века, и из Соединенных Штатов. Шведские предприниматели, в отличие от русских, хорошо понимали, что главная составляющая успеха — сбыт, и потому закупили за океаном трубы и насосы, первыми построили нефтепроводы, стали производить железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда. Причем, как утверждали историографы русской нефтяной промышленности, Нобели первыми в мире стали производить танкеры. Нобели же первыми построили резервуары для нефти и нефтепродуктов в крупных промышленных центрах России. Внедрением всех этих новшеств обществу Нобелей удалось добиться феноменального снижения стоимости нефти с 10 до 0,5 копейки за пуд. А после того как они в числе первых начали освоение грозненской нефти, их стали называть русской нефтяной компанией номер один.
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Перспективные грозненские месторождения помогли Нобелю противостоять демпингу со стороны Standard Oil |
Еще одна крупная иностранная фирма — французский Торговый дом Ротшильдов — появилась в России в 1886 году. За три года до этого была достроена железная дорога Баку—Батуми и образовано «Батумское нефтепромышленное общество», чтобы использовать этот путь для перевозки керосина к морю и его экспорта на судах. Однако собственных средств у основателей не хватило, и все предприятие перешло в руки Ротшильдов, вложивших в перспективный проект — «Каспийско-Черноморское общество» — колоссальные для того времени 6 млн рублей.
Русские нефтепромышленники не без оснований считали появление Ротшильдов спасением от кризиса. За семь лет с 1880 года добыча нефти в России выросла в шесть с половиной раз. В 1887 году Баку давал 2,64 млн тонн сырой нефти и 700 тыс. тонн нефтепродуктов, что значительно перекрывало потребности внутреннего рынка. Традиционный путь экспорта Нобелей — баржами по Каспию, Волге и далее по железной дороге в Германию — имел ограниченную пропускную способность, а Ротшильды сумели за год увеличить экспорт керосина из России почти вдвое. Заключив соглашение с англичанами, они начали поставлять русский керосин даже в Индию. Крупные русские нефтепромышленники также начали создавать в Европе и Азии собственные сбытовые конторы.
Приток экспортной выручки стимулировал добычу, и в 1901 году Россия вышла на первое место в мире — 11,2 млн тонн в год (53% мировой добычи). Русская нефть составляла почти половину импорта Англии, треть — Бельгии и три четверти — Франции. Мало того, Россия стала основным поставщиком нефти и нефтепродуктов на страдавший тогда от его отсутствия Ближний Восток.
И все это, конечно, очень раздражало самую крупную компанию на мировом рынке — американскую Standart Oil.
Ленинский путь для Рокфеллера
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Мощные конкуренты не давали немцам стать сильными игроками на нефтяном рынке. На принадлежавших им промыслах в России и Галиции регулярно происходили аварии и пожары |
Джон Д. Рокфеллер и его компаньоны сумели в Штатах сделать то, на что Нобелям в России не хватило смелости и напора. Как с досадой отмечали русские конкуренты, Standart Oil начиналась в 1870 году с небольшого акционерного общества, объединившего вокруг себя несколько небольших заводов, с трудом перерабатывавших 600 баррелей нефти в день (1 баррель — 158,988 литра). Однако Рокфеллер быстрее и лучше других сумел оценить преимущества, которые дает контроль над путями транспортировки и сбытом нефти. Он первым в мире начал строить сети нефтепроводов между месторождениями, заводами и потребителями, а также заключал монопольные соглашения с железнодорожными компаниями о льготных тарифах на перевозку нефти в цистернах.
Уже к началу 1890-х годов он сумел стать монополистом на нефтяном рынке североамериканских Соединенных Штатов и диктовал свою волю 15 тыс. мелким нефтяным компаниям. Добывая 18%, он контролировал переработку и транспортировку 95% американской нефти. Рокфеллеру принадлежала и самая отлаженная и разветвленная сеть сбыта нефтепродуктов в Европе.
Первые русско-американские керосиновые войны разразились вскоре после начала масштабного экспорта русских нефтепродуктов через Батуми. И если с помощью Ротшильдов русскому керосину удалось отвоевать часть рынка Англии и ее колоний, а также рынков Франции и Бельгии, то в других странах дело обстояло отнюдь не так радужно. На рынке крупнейшего европейского потребителя нефти — Германии — русская доля никогда не превышала 13%. Standart Oil не без успеха отбивал атаки русских экспортеров и на рынках других стран.
Обычно Standart Oil не слишком церемонилась с конкурентами и демпингом доводила их до разорения. Потери легко покрывались увеличением цен, которые Рокфеллер контролировал монопольно. Однако во второй половине 1890-х годов сама Standart Oil предложила крупнейшим русским нефтяным обществам переговоры об установлении цен на европейских рынках. Как считали русские нефтяники, покладистость американского монополиста объяснялась прежде всего истощением уже эксплуатируемых в Штатах месторождений и отсутствием успехов в разведке новых.
Возможно, уступчивость Standart Oil объяснялась и тем, что компания пыталась начать работу в России. Однако императорское правительство не без оснований полагало, что Рокфеллер хочет монополизировать и русский рынок, и все предложения Standart Oil о разработке месторождений и праве транспортировки нефти из России в 1899-1902 годах неизменно отвергались.
Тем временем в штате Канзас были открыты новые нефтеносные районы, и теперь Standart Oil могла спокойно поставить на колени русских нефтепромышленников. В ход был пущен демпинг, выдержать который смогли, да и то с большим трудом, только Нобели.
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Возбуждение масс к бунту как средство конкурентной борьбы в России Standard Oil применил в 1904 году в Батуми (на фото) и Баку, а в 1924-м Royal Dutsh Shell — в Грузии и Чечне |
А затем Рокфеллер пошел другим, ленинским путем. Все началось с волнений в Батуми, результатом которых стало, пусть и недолгое, прекращение экспорта керосина. Позднее, в декабре 1904 года, начались беспорядки на промыслах в Баку. Погромы и поджоги, как казалось тогда, не были вызваны никакими ясными причинами. Большинство рабочих так и не могли объяснить, чего же, по сути, они требуют. Но для владельцев русских нефтяных обществ причины восстания были очевидны: услуги организаторов бунта были оплачены из фондов Standart Oil.
Последствия революции для русской нефтепромышленности оказались катастрофическими. Добыча нефти и экспорт резко сократились, и место русских компаний на рынке с успехом заняла Standart Oil. Общее количество вывозимой из России нефти в 1906 году уменьшилось в сравнении с дореволюционным временем втрое. Экспорт нефти во Францию сократился вчетверо, в Англию — втрое, в Китай и Индию — в 24 раза.
В отчете о нефти Союза русских торгово-промышленников говорилось: «Понижение экспорта нефтяных продуктов отразилось весьма пагубно на экономическом положении России. В первую очередь оно отразилось на участи города Батума, развитие которого в момент роста экспорта русской нефти шло бурными шагами вперед. Почти все его фабрики по выделке жестяных бидонов и деревянных ящиков должны были закрыться, пароходы прибывали в порт 1-2 раза в неделю, рабочие и коммерсанты в большинстве своем покинули этот город, и из крупного коммерческого центра он превратился в мертвую провинцию».
Добило нефтепромышленность родное российское правительство. Оно изменяло тарифы на перевозку нефтепродуктов по железной дороге, сообразуясь не с конъюнктурой мирового рынка, а с расходами казны. В результате еще в 1903 году производство пуда керосина в Баку стоило 17 копеек, а его перевозка до Батуми — 16.
В 1904 году, когда Standart Oil обвалила цены на керосин в Европе, тариф был увеличен. После фактического краха отечественного нефтеэкспорта правительство подумывало о снижении стоимости перевозок. Но потом отказалось «ввиду бюджетных затруднений».
Standart Oil попыталась воспользоваться плодами победы и получить плацдарм на русском нефтяном рынке. Она хотела легализовать уже действовавшие в России дочерние компании «Вакуум Ойл» и «Чизбро», однако процесс регистрации затянулся. Было установлено, что «Вакуум Ойл» прибегала к нечистоплотным приемам: пыталась зарегистрировать российский филиал на подставных лиц и т. п. Обманом оказались и заявления обеих компаний о намерении наладить в России производство нефтепродуктов. До начала первой мировой войны обе компании занимались исключительно торговлей произведенными вне России товарами, что не поощрялось правительством.
В итоге оказалось, что наибольшие преимущества от ослабления русских нефтепромышленников получила вовсе не Standart Oil, а ее новый и достаточно сильный мощный конкурент — Royal Dutsh Shell.
Акула англо-голландского капитализма
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Попав в компанию акул нефтяного бизнеса Джона Рокфеллера-младшего и сэра Генри Детердинга, глава советского Нефтесиндиката Георгий Ломов постоянно сталкивал их между собой и другими участниками рынка |
Голландская Royal Dutsh появилась на мировом рынке в 1890 году. Своим быстрым ростом она была обязана одному из своих директоров — Генри Детердингу, манера ведения дел которого не слишком отличалась от хватки Рокфеллера. Компания вела нефтеразработки в Голландской Индии, где, опираясь на опыт Standart Oil, сумела наладить сеть транспортировки и переработки нефти. Считалось, что созданная Детердингом торговая сеть во многих странах Европы и Азии была отлажена не хуже, чем сбытовые подразделения Standart Oil.
Одним из первых это обстоятельство оценил сам Рокфеллер, который решил ликвидировать голландскую опасность в зародыше, пока Royal Dutsh не сумела как следует встать на ноги. Однако момент был упущен. Голландцы сумели выдержать игру на понижение цен, правда, для этого им пришлось уменьшить дивиденд на акцию с обычных 52% до 6%.
И все же Royal Dutsh была недостаточно сильна для борьбы на два фронта, и потому, когда нефтеразработками в Голландской Индии занялась английская компания «Шелл транспорт», имевшая солидный флот, Детердинг предложил конкурентам слияние.
Современники считали, что объединенная Royal Dutsh Shell являет собой пример рационального управления. Все функции — добыча, переработка, транспортировка — были сосредоточены в руках отдельных, входящих в холдинг компаний, которые быстро росли и богатели. Еще одной чертой политики компании стало проникновение во все страны, где были найдены или разведывались залежи нефти.
Не стала исключением и Россия. Детердинг блестяще сумел использовать финансовые затруднения русских нефтяников. Сам он на недостаток средств никогда не жаловался. Даже его противники отмечали, что безукоризненная деловая репутация в лондонском Сити равнозначна неограниченному кредиту.
Скупать нефтяные компании в России Детердинг начал в 1910 году. Для начала он купил третью по объемам добычи компанию в Грозном, затем крупную Урало-Каспийская нефтяную корпорацию, а в 1913 году под контроль Royal Dutsh Shell перешли все предприятия, принадлежавшие Ротшильду, включая те, что владели перспективными месторождениями в Грозном. В том же году были приобретены акции крупнейшего русского предприятия по производству смазочных масел Шибаевских заводов.
Так что к 1914 году Royal Dutsh Shell оказалась третьей по величине нефтяной корпорацией в России, уступая по объему капитала и добыче лишь Russian General Oil Co., объединявшей крупнейших русских нефтепромышленников, и нефтяной корпорации Нобелей.
Внутри русских предприятий Royal Dutsh Shell царил порядок, установленный в большинстве нефтекомпаний с участием иностранного капитала. Управляющими и инженерами были в большинстве своем русские, «знакомые с местными особенностями и привычные к управлению туземным населением». Представителям собственника отводилось главным образом руководство бухгалтерией.
Небольшой помехой на пути англо-голландской корпорации в России были фирмы, принадлежащие немцам. Royal Dutsh Shell пытался вытеснить их и с Кавказа, и с нефтепромыслов в Галиции. Однако сделать это до начала первой мировой войны не удалось.
Черное золото с красной звездой
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Чтобы вытеснить японских оккупантов с севера Сахалина, большевики пообещали отдать нефтепромыслы там американцам |
Мировая война оказалась подлинной удачей для всех нефтяников. Потребление нефти воюющими странами росло не по дням, а по часам. В начале войны Франция имела 110 грузовиков и 132 самолета, а в 1918 году — 70 тыс. грузовиков и 12 тыс. аэропланов. За годы войны мировая потребность в нефти выросла впятеро — до 20 млн баррелей в год. Доходы нефтяных корпораций росли, как на дрожжах. Standart Oil, к примеру, стала первой в мире компанией, чей капитал перевалил за миллиард долларов.
Вот только русская нефть на этом празднике жизни играла второстепенную роль. Ею больше всего интересовались немцы, которые даже в условия Брестского мира включили пункт о предоставлении им четверти всей добычи бакинской нефти. Ленин со спокойной совестью мог им это обещать. Даже в то время, когда Баку находился под контролем большевиков, вывезти нефть чаще всего было невозможно. Большевики могли пообещать немцам и грозненскую нефть, но добывать ее было некому: большинство рабочих бежали с промыслов, не выдержав голода и бесчинств спускавшихся с гор банд.
Однако непорядки на промыслах не слишком волновали их бывших владельцев, и еще меньше — Рокфеллера и его компаньонов. Все были абсолютно уверены в том, что большевики скоро уйдут с исторической сцены и русскую нефть можно будет вновь добывать и делить.
Как свидетельствуют сводки ОГПУ, внимательно следившего за зарубежной нефтяной жизнью и даже выпускавшего секретный нефтяной информационный бюллетень, Standart Oil и Royal Dutsh Shell через дочерние и подставные фирмы скупали акции у оказавшихся в эмиграции русских нефтепромышленников, выжидая, пока обстоятельства не подвигнут отдать их по бросовой цене.
Все ждали падения большевиков с часа на час, но режим Ленина все не падал. Как доносили чекисты советскому правительству, в 1920 году состоялось соглашение всех крупных нефтяных компаний о том, что ни одна из них не будет покупать нефть у большевиков и не будет откликаться на предложения Кремля заняться вновь добычей в России. Но только все эти соглашения стоили не дороже бумаги, на которой они были написаны.
Большевики достаточно ловко применяли тактику «разделяй и властвуй». К примеру, в 1921 году советское правительство предложило группе американских промышленников концессию на добычу нефти на севере Сахалина. Правда, его в то время оккупировали японцы, а американская группа не имела достаточных средств для осуществления проекта. Но результат был налицо: организованный американо-японский конфликт был на руку большевикам.
 |
| Фото: РГАКФД/РОСИНФОРМ |
| Великая депрессия привела к поражению Standard Oil и Royal Dutsh Shell в их очередной «керосиновой войне» с СССР. Необходимое большевикам оборудование и технологии поставили западные фирмы, остро нуждавшиеся в заказах |
Красные дипломаты внушали независимым от Standart Oil американским нефтяникам, что они могут получить огромные привилегии в нефтедобыче в России, но лишь после того, как Штаты признают правительство большевиков. И проглотившие наживку нефтяники давили на своих конгрессменов и инспирировали статьи о признании РСФСР в солидных американских изданиях.
То, что пытались противопоставить этому бывшие собственники, казалось просто смешным. К возглавившему Италию Муссолини, например, явился инженер Верблюдовский с предложением хитроумной комбинации. Италия берет в аренду у Москвы обширные нефтеносные районы на Кавказе и отдает их бывшим собственникам промыслов, которые возобновляют там работу, а затем лучшие силы русских монархистов и итальянских фашистов свергают советскую власть. Зачем это нужно Италии, Верблюдовский даже не задумывался, а когда получил отказ, объяснял его тем, что он — масон, а Муссолини ненавидит масонов.
Другие эмигранты предлагали наладить контакты со своими бывшими служащими, которые теперь трудились на благо советской власти, и убедить их действовать в интересах бывших хозяев, тем самым отправляя несчастных прямо на Лубянку.
Кроме того, бывшие собственники с завидной регулярностью навязывали нефтемагнатам соглашения о нефтяной блокаде советской России, но, начиная с 1922 года, после каждого такого заседания его состоятельные участники немедленно бросались на поиск сепаратных контактов с красными.
Royal Dutsh Shell действовала практично и цинично. Когда там поняли, что вернуть собственность не удастся, Детердинг начал выяснять, когда могут начаться поставки советской нефти на экспорт и как они повлияют на мировые цены на нефть. В Россию было отправлено множество разведчиков компании под видом мелких коммерсантов, журналистов и т. д.
Одного из таких осведомителей ОГПУ выявило в Новороссийске. Англичанин Эвиас Леон был сам повинен в своем провале. Этот бывший инженер с грозненских нефтепромыслов умудрился остановиться в квартире тетки белогвардейского генерала Шкуро, находившейся под наблюдением, а также встречался с людьми, которых подозревали в экономическом шпионаже. Москва не стала портить отношений с Royal Dutsh Shell, и Леона просто выслали за границу.
Однако сведениями, полученными от других эмиссаров, Детердинг должен был остаться доволен. Ему сообщали о массовом уходе квалифицированных рабочих с промыслов. Пайка — килограмма хлеба плохого качества в день на семью — было явно недостаточно, а при дневной зарплате в 160 рублей купить масло по 10 тыс. рублей за килограмм рабочий также явно не мог.
На встрече с коллегами Детердинг говорил, что «нефтяной экспорт из России не имеет никакого значения, 100 тыс. фунтов стерлингов все равно не доходят до центрального правительства». При этом, как утверждали знатоки, он время от времени распускал слухи о том, что заключил договор с Советами и теперь будет единолично распоряжаться экспортом советской нефти. Акции Royal Dutsh Shell на некоторое время взлетали в цене, и сам Детердинг, продавая и покупая, прибавлял к своему капиталу совсем неплохие деньги.
Зарабатывал Детердинг и на реальных закупках советского керосина, которые он старался не афишировать. Однако об этих сделках, нарушающих нефтяную блокаду СССР, узнали газетчики. И сэру Генри пришлось давать объяснения акционерам Royal Dutsh Shell. Вывернулся он с изяществом: «Летом 1922 года мы присоединились к соглашению, заключенному между главными из бывших собственников — нефтепромышленников в России, по которому никто не имеет права приобретать территорий, принадлежавших раньше кому-нибудь другому. Мы никогда не заключали соглашения на предмет бойкота русской нефти. Наоборот, мы всегда считали себя свободными в покупке русской нефти, значительная часть которой добывалась на промыслах, принадлежавших прежде нам или же государству. Мы всегда считали бойкот нездоровым явлением с точки зрения экономической».
Коллеги по соглашению о бойкоте объявили Детердинга предателем, но абсолютно то же самое делала и Standart Oil. Она точно так же распускала слухи об эксклюзивных правах на советскую нефть, якобы полученных ею по договору с большевистским правительством, и точно так же боялась роста экспорта советской нефти и скупала то, что удавалось скупить.
Единственной разницей было то, что Standart Oil не предпринимала конкретных шагов для снижения нефтедобычи в СССР, а вот Детердинг рискнул и попался. 28 сентября 1924 года нарком иностранных дел Чичерин доложил членам политбюро, что установлен заказчик произошедшего в Грузии антисоветского выступления. Попытка мятежа, о подготовке которого не знали находившиеся в эмиграции лидеры грузинских меньшевиков, осуществлялась на деньги английских нефтяников. ОГПУ докладывало, что и банды в Чечне, нападавшие на поезда и промысла, финансируются англичанами.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения советского руководства, стала информация о том, что по заказу Детердинга фальшивомонетчики печатают фальшивые советские червонцы, чтобы дестабилизировать финансовую систему СССР. Сэр Генри получил ярлык заклятого врага советской власти, а из проекта соглашения со Standart Oil и «другими крупными мировыми нефтепроизводителями» эти самые «другие» были вычеркнуты.
Но и Standart Oil на подписание серьезных договоров с Москвой не пошла, хотя кремлевские мечтатели были согласны даже создать фонд для выплаты компенсации бывшим собственникам промыслов: 5% от стоимости всей продаваемой на внешнем рынке советской нефти. Рокфеллеру было наплевать на каких-то русских эмигрантов. На подписание договора он не пошел, как докладывало Совнаркому ОГПУ, считая советское правительство не исполняющим никакие письменные обязательства.
Многочисленные проекты договора со Standart Oil были списаны в архив, а восстановлению советской нефтяной промышленности способствовало множество зарубежных фирм, которые после мирового кризиса 1929 года были рады получить любой заказ, хоть от самого дьявола.
ЦБ сообщил о росте прибыли банков на 14% в феврале из-за валютной переоценки
Что происходило после ввода войск России на Украину. День 391-й
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,6
Коммерческому директору Собчак предъявлено окончательное обвинение по делу о вымогательстве у Чемезова
На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии