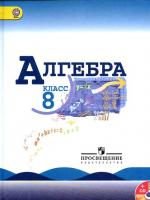Лекция 2. ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ В РОССИИ
Цель:
рассмотреть пути развития социальной работы в России
Основные
понятия
История социальной работы,
взаимопомощь, социальная поддержка, благотворительность, формы
благотворительной деятельности, призрение, типы призрения, социальная помощь,
социальное обеспечение.
У древних славян основные формы
поддержки были в руках родоплеменной общины. Род поддерживал своих сородичей,
обеспечивая всех пропитанием, одеждой, жильем, опекал малолетних. Социальная
взаимопомощь проявлялась в совместной хозяйственной деятельности, в защите
своих территорий от завоевателей, в различных ритуальных действиях. Так
называемые «помоги» оказывались членам рода при пожаре, наводнении, внезапном
нападении. В хозяйственной деятельности осуществлялись совместная обработка
земли, использование животных, заготовка кормов и уборка урожая. Род
вырабатывал особые обычаи охранительного порядка, которые помогали выжить в
тяжелых условиях его сородичам. Особо выделялась общинная помощь немощным
старикам, детям-сиротам, вдовам. Нуждающимся оказывалась не только помощь
продуктами, но и особая «мирская» помощь, когда нуждающийся переходил из дома
в дом на кормление. Особое место отводилось круговой поруке («верви») как системе
взаимоподдержки членов общины. Уже в этот период складывались специфические
формы заботы о нуждающихся. Многие историки связывают эти традиции с
особенностями русского национального характера, которому присуще обостренное
чувство справедливости, милосердия и сострадания. Общинная жизнедеятельность
способствовала распространению чувств равенства и солидарности людей.
История социальной работы —
целостный культурно-исторический процесс, имеющий определенные этапы своего
самостоятельного развития. Каждый этап изменения помощи связан с изменением
субъекта и объекта, институтов поддержки, идеологии оказания помощи.
Появление в 863 г. славянского
алфавита, а затем и письменного славянского языка стали важнейшими факторами
развития самобытной славянской цивилизации, главными чертами которой стали
сострадательность и взаимопомощь. Для народов России милосердие, будучи
выражением совестливости и особого состояния души, исторически являлось не
просто проявлением жалости и сочувствия, а служило средством духовного
очищения, внутреннего совершенствования.
Начиная с X в. на Руси постепенно
разрушаются родоплеменные отношения, что приводит к созданию новых форм поддержки
и защиты нуждающихся. В период с X по XIII в. складывается модель
княжеского и церковно-монастырского попечения, в рамках которой
создавались приюты, ночлежные дома и богадельни. Многие князья лично раздавали
нуждающимся деньги и продукты. По свидетельству летописцев, на княжий двор
позволялось приходить «всякому нищему и убогому» для того, чтобы прокормиться.
Больным, которые не могли самостоятельно приходить, отправлялись повозки с
продовольствием, им оказывали и врачебную помощь. При князе Ярославе были открыты
первые училища для обучения юношей из малообеспеченных семей. Первые больницы
для бедных, где они получали бесплатную помощь, были учреждены киевским
митрополитом Ефремом в 1090 г.
Простейшие виды помощи заключались в
кормлении нищих. В старину говорили: «Нищий богатым питается, а богатый нищего
молитвой спасается».
Милостыня как подаяние в виде денег
или иных материальных средств нуждающимся впоследствии была вознесена церковью в
религиозную обязанность. Милостыня сохранилась и до наших дней как форма
сострадания нуждающимся.
В Московской Руси дело призрения
бедных и немощных было в основном сосредоточено в монастырях и церквах.
«Призреть» означало «опекать» или «заботиться о ком-то». Призрение выражалось,
прежде всего, в предоставлении нуждающимся приюта и пропитания. Благодаря
десятине и обычаю частных лиц оставлять церкви свое имущество в монастырях
имелись средства для оказания помощи нуждающимся.
Церковная практика призрения
развивалась не только в монастырях, но и в приходах. Приходская
благотворительность выражалась в виде выдачи ссуды из церковной казны деньгами,
хлебом, семенами. Ссуды выдавались «скудным» крестьянам и целым деревням,
которые подверглись стихийному бедствию. В северных землях, а затем в Сибири
начиная с XVII в церковная казна играла роль народных благотворительных банков.
Ссуды выдавались без процентов и без заклада имущества. Приходы защищали
слабых, прежде всего женщин от тирании мужчин. Для больных и одиноких при
приходах создавались богадельни. Для детского призрения при богадельнях
устраивали приюты для сирот. Важную роль приходы играли в распространении
грамотности среди населения, много внимания уделялось и духовному перевоспитанию.
Свой вклад в развитие
благотворительности внесли и православные братства, которые считали ее своей
основной задачей. Братства выдавали пособия для бедных, учреждали больницы,
богадельни, заботились о воспитанниках духовных учебных заведений. С
укреплением крепостного права и централизацией церковного управления
приходские общины и православные братства были вынуждены закрывать богоугодные
заведения.
Первые попытки создания системы
общественного призрения были предприняты во времена царствования Федора
Алексеевича. Делами призрения стали ведать особые Приказы, которые в рамках
государственной, а не церковной службы принимали решения об открытии богоугодных
заведений.
При Петре I идеи общественного
призрения как особой отрасли государственной опеки активно воплощаются в
жизнь. Ограничивалась роль церкви в социальной политике, забота о бедных и
немощных превращается в обязанность государственных служб. Петр I положил
начало развитию государственной системы попечения о нуждающихся.
Выделяются отдельные категории
нуждающихся, для которых рассматриваются особые меры попечения. Ставятся
вопросы о профессиональном нищенстве и его искоренении. Государство приглашает
частных лиц направлять свои пожертвования в закрытые учреждения (богадельни,
госпитали, школы), для того чтобы помощь нуждающимся носила постоянный,
систематический характер. Решаются задачи предупреждения воспроизводства нищеты,
бедности, тунеядства. Предпринимаются меры по созданию специализированных
социальных учреждений, таких, как больницы, богадельни, приюты для «зазорных»
(незаконнорожденных) младенцев, смирительные дома, прядильные дома для лиц,
склонных к профессиональному нищенству. Постоянное внимание уделяется
призрению солдат, матросов, офицеров, получивших ранения и увечья в ходе
многолетних войн. Только в Москве было устроено более 90 богаделен, в которых
находилось до 4500 человек, получавших содержание от казны.
Растет роль государства в деле борьбы
с голодом. Издается ряд законов, регламентирующих действия властей, церкви, помещиков,
крестьян в период голода. Предусматриваются введение государственной монополии
на цены, раздача хлеба в долг, формирование запасов зерна и продовольствия на
случай неурожая или других стихийных бедствий. При оказании социальной помощи
государство стремилось проводить политику, направленную на ограничение
деятельности церкви, пресечение распространения профессионального нищенства,
на борьбу с голодом и эпидемиями.
Екатерина II продолжила политику
Петра I. Система общественного призрения стала охватывать практически все слои
населения. Приказы общественного призрения осуществляли попечение и
надзирание народных школ, сиротских домов, госпиталей и больниц, богаделен для
убогих, увечных и престарелых, которые не имели пропитания, особых домов для
неизлечимо больных; домов для сумасшедших и смирительных домов; работных домов
для лиц обоего пола. Эту систему дополнили учреждения Вдовьей ссудной и
сохранной казны. Важное значение имело создание Воспитательных домов в Москве
и Санкт-Петербурге — заведений для призрения незаконнорожденных детей. Воспитательные
дома строили попечительскую деятельность через систему округов, расширяя зону
своего влияния и обеспечивая максимальный охват нуждающихся в помощи. Средства
Воспитательного дома складывались из пожертвований царской семьи, доходов от
предприятий и капиталов самого дома, государственных субсидий,
благотворительных взносов, прибыли игорных домов и др. Через 100 лет своего
существования, в 1892 г., под опекой Воспитательного дома Санкт-Петербурга
находилось 34 тыс. детей и взрослых, которые были распределены в семьях, в
приютах, в больницах, на обучении в училищах, в земледельческих колониях, на
служебных должностях. Воспитательный дом представлял собой комплекс
разнообразных учреждений, выступая как центр попечительства и опеки, социальной
защиты обездоленного детства.
С 1802 г. Приказы общественного
призрения были отнесены к ведению Министерства внутренних дел, а затем к
ведению Министерства полиции. До середины XIX в. вся благотворительная
деятельность и социальное вспомоществование были преимущественно сосредоточены
в рамках государства и церкви. Это выражалось в установлении чиновничьего
контроля за деятельностью учреждений общественного призрения.
Для улучшения призрения детей и
женщин Указом Павла I его супруга Мария Федоровна была назначена руководителем
Ведомства учреждений императрицы Марии, которое взяло под свою опеку почти все
образовательные учреждения для детей и все воспитательные дома. Ведомством была
основана система женского обучения для девочек из бедных сословий, а
также для слепых и глухих детей. В 1797 г. было учреждено сиротское училище
для детей разночинного сословия: дочерей купцов, мещан, ремесленников,
священников. Позже училище было переименовано в Мариинский институт,
просуществовавший до 1917 г. Знаменательным актом Ведомства было открытие в
1806 г. первого в России училища для глухонемых детей, а в 1807 г. — первого
института для слепых.
Почти одновременно с Ведомством
учреждений императрицы Марии по инициативе Александра I была основана еще одна
крупная благотворительная организация — Императорское человеколюбивое
общество, также находившееся под патронатом двора. В ведении человеколюбивого
общества в конце XIX в. находились:
§
57 учебно-воспитательских заведений,
призревавших и обучавших 5,5 тыс. сирот и детей бедняков;
§
63 богадельни, где призревались 2 тыс.
престарелых и увечных;
§
32 бесплатных дома с дешевыми квартирами,
в том числе 3 ночлежных приюта;
§
7 народных столовых, ежедневно отпускавших
2500 бесплатных обедов;
§
6 домов трудолюбия на 1000 человек;
§
19 медицинских учреждений, оказывавших
лечебную помощь 140 тыс, неимущим больным.
Отличительной чертой Императорского
человеколюбивого общества была централизация благотворительности, даже пожертвования
от частных лиц принимались с его разрешения. Для поощрения частной
благотворительности были учреждены специальные нагрудные знаки (золотой,
серебряный и бронзовый), которыми награждались жертвователи крупных сумм. На
благотворительные цели вносились суммы от сотен тысяч до нескольких миллионов
рублей. В течение только одного 1898 года благотворительностью в России
воспользовались более 7 млн человек, не считая 20 млн разовых обращений к
благотворительной помощи.
Примерно треть благотворительных сумм
расходовалась на помощь взрослым; другая часть — на помощь детям и учащимся;
еще треть — на медицинскую помощь. В зависимости от типа заведения на каждого
призреваемого тратилось от 60 до 130 руб. в год. Им предоставлялись бесплатно
помещения для жилья, пища, одежда, необходимые для жизни предметы, а иногда
небольшие денежные пособия.
В условиях крайней поляризации
богатства и бедности благотворительность выступала некоторым регулятором
социального равновесия, центром устранения острых социальных конфликтов.
В зависимости от своего назначения
благотворительные учреждения подразделялись на шесть типов:
■
призрение детей и взрослых;
■
дешевое и бесплатное обучение;
■
дешевое и бесплатное проживание;
■
дешевое и бесплатное пропитание;
■
трудовая помощь;
■
лечебная помощь.
Система защиты детей и подростков
включала в себя специфические учреждения общественной помощи. Передовые
технологии социально помогающей деятельности, патронаж и усыновление
позволяли вовлекать призреваемых в решение их жизненных проблем.
Немаловажное значение в расширении
опыта и осмыслении дореволюционной российской практики благотворительности
имели работы общественных деятелей. Их исследования публиковались в
специальных брошюрах и на страницах периодической печати, в сборниках, таких,
как «Вестник благотворительности», «Детская помощь», «Трудовая помощь детям» и
др.
О развитии благотворительных
учреждений в России в XIX в. можно судить по данным из отчетов Ведомства
императрицы Марии.
Расцвет благотворительности
приходится на вторую половину XIX — начало XX в. — период великих реформ в
России, высокого социально-экономического уровня развития государства. К этому
времени благотворительность сложилась в общероссийскую систему солидных
обществ и учреждений государственного, церковно-общественного и частного
вспомоществования «недостаточным» (бедным) и нуждающимся. Наиболее признанными
в обществе благотворителями были Ведомство учреждений императрицы Марии,
Императорское человеколюбивое общество, Общество Красного Креста, городские и
земские благотворительные учреждения, сословные благотворительные учреждения.
Существовала широкая сеть церковно-приходских обществ и братств, благотворительных
заведений при церквах иноверных исповеданий, иностранных благотворительных
учреждений. Были организованы благотворительные учреждения для увечных воинов,
их семей и вдов, лиц, убитых на войне; общества попечения о слепых, глухонемых,
калеках, идиотах и эпилептиках; благотворительные общества при больницах;
общества попечения об освобожденных из тюрем и о семьях заключенных. Получили
распространение благотворительные заведения разных обществ и частных лиц,
многие из которых имели профессионально подготовленных сотрудников, служебную
форму одежды по образцу государственного служащего.
В 1910 и 1914 гг. прошли съезды
деятелей социальной сферы, где обсуждались назревшие проблемы и направления
дальнейшего совершенствования различных форм благотворительности (государственной,
общественной, включая общинную и церковную, а также филантропическую
деятельность и меценатство).
Особой славой благотворителей
пользовались в Москве купеческие дома Бахрушиных, Щукиных, Рябушинских,
Морозовых, Третьяковых, которые открывали больницы для неизлечимо больных,
сиротские приюты, приюты-колонии для беспризорных детей, «дома бесплатных
квартир», где действовали детские сады, реальные училища, профессиональные
училища для глухих, немых и слепых, профессиональные школы для девочек, дома
для вдов и сирот художников.
В дореволюционной России сложилась
следующая система призрения:
■
учреждения и общества, состоявшие в
ведении Министерства внутренних дел (земские, городские, приказы общественного
призрения);
■
благотворительные учреждения, состоявшие
под непосредственным покровительством императорского дома;
■
попечительства о бедных разных ведомств.
Примечательно, что большая часть
расходов Российской империи на благотворительность приходилась на Прибалтийские
губернии, где на эти цели тратилось 14% всех мирских расходов. В то же время
по всем другим губерниям России (Европейской части) — меньше 1 % (в некоторых
губерниях доходило до 0,3 %).
Несомненно, государственная система
социального попечения, сочетавшаяся с различными видами общественной и частной
благотворительности, была прогрессивным явлением по сравнению с христианской
благотворительностью, которая рассматривала благотворительность как способ
нравственного совершенствования. Однако создание организованной системы
общественного призрения не в состоянии было покончить с проблемой бедности,
поскольку не устраняла порождающие ее экономические и социальные причины.
В мае 1917 г. постановлением
Временного правительства было образовано Министерство государственного
призрения. Его задачей была разработка общероссийского плана государственного
призрения с целью передачи основных функций по оказанию помощи, нуждающимся в
непосредственное ведение местных органов самоуправления. Децентрализация призрения
предусматривала принятие новых социальных законов, более жесткий государственный
контроль финансирования социальной деятельности.
Великая Октябрьская социалистическая
революция 1917 г. открыла новый этап принципиально иной государственной системы
социальной поддержки. Первая конституция Советской республики — Конституция
РСФСР (июнь 1918 г.) декларировала строительство справедливого общества,
обеспечивающего социальные гарантии трудящимся на основе искоренения
эксплуатации человека человеком. Новая государственная власть, сумевшая выйти
победителем в полномасштабной Гражданской войне, получила в наследство
разоренную экономику, парализованный транспорт, сотни тысяч инвалидов,
искалеченных, вдов и сирот.
Принятая в самый разгар Гражданской
войны вторая программа РКП (б) — единственной правящей партии — конкретизировала
меры в области охраны труда и социального обеспечения, решения жилищных
вопросов, охраны народного здоровья и материального распределения (через
организацию единой сети потребительских коммун). Функции социального
обеспечения трудящихся были возложены на Наркомат государственного призрения
РСФСР (НКГП), принявший все имущество и денежные средства прежних
благотворительных ведомств и органов общественного призрения. В 1918 г. НКГП
был преобразован в Наркомат социального обеспечения с передачей функций охраны
материнства и младенчества вновь созданному Наркомату здравоохранения. Средства
на социальное обеспечение складывались в основном из взносов государственных и
частных предприятий и учреждений, составляя единый Всероссийский фонд
социального обеспечения.
В 1917-1918 гг. были приняты
важнейшие законодательные акты «О страховании на случай болезни», «Положение о
социальном обеспечении трудящихся». В них предусматривалось бесплатное
оказание всех видов врачебной и лекарственной помощи, а также выплата пенсии,
льгот, пособий. Формировалась система предоставления помощи натурой (снабжение
продовольствием, одеждой, топливом). С января 1924 г. пособие по временной нетрудоспособности
соответствовало размеру полного заработка (в 1923 г. — только лишь 65%
фактического заработка).
Экономя на всем, новая власть
изыскивала средства для улучшения медицинской помощи населению, которая уже в
1918 г. стала бесплатной и общедоступной. Однако средств было мало, поэтому в
первую очередь обслуживались рабочие ведущих отраслей промышленности, от
которых зависела обороноспособность государства. Впервые в России для
тяжелобольных рабочих была организована бесплатная медицинская помощь на дому.
В 1920 г. по сравнению с 1913 г.
число медицинских учреждений возросла на 40 %, поэтому не хватало кадров
медиков. Правительство вынуждено было проводить мобилизацию медперсонала на
фронт. В 1918-1920 гг. было открыто 17 новых медицинских институтов и факультетов.
Функции социального страхования
первоначально возлагались на комиссии по охране труда и социальному обеспечению
при фабрично-заводских комитетах. О высоких темпах развития советской системы
социального страхования свидетельствуют следующие факты: если к концу 1922 г.
социальным страхованием было охвачено около 80% работавших, то уже в 1925 г.
были фактически застрахованы все работавшие по найму. С 1933 г. социальным
страхованием стали заниматься профсоюзы, охватывавшие практически всех занятых
в разных отраслях народного хозяйства.
В последующие годы система
социального страхования совершенствовалась, сохраняя до настоящего времени
неизмененными ряд положений:
■
предоставление страхования в качестве
базовой гарантии конституционного права граждан на материальное обеспечение в
старости, в случае болезни, потери трудоспособности или потери кормильца;
■
охват системой страхования всех без
исключения рабочих и служащих;
■
оплата страховых взносов предприятиями и
учреждениями;
■
введение для определенных категорий
населения ряда социальных льгот (пособие по беременности и родам, пособие в
связи с рождением ребенка, пенсии за выслугу лет, предоставление путевок и т.
д.).
В 1927 г. было введено пенсионное
обеспечение по старости. Оно предусматривалось для всех трудящихся: работавших
по найму, ремесленников и кустарей, исключая крестьян. Наряду с пенсией
выдавались пособия: при безработице, стихийных и социальных бедствиях; семьям
красноармейцев; жертвам контрреволюции; при беременности и родах; кормящим
матерям; на погребение умерших членов семей. На селе такую же роль играли комитеты
крестьянской взаимопомощи, оказывавшие денежную помощь крестьянам в случае
неурожая.
Социально-политические и
экономические изменения, произошедшие в стране, позволили в Конституции 1936
г. закрепить право всех граждан на социальное обеспечение по старости, болезни,
утрате трудоспособности. Важнейшим шагом вперед стало установление равенства
прав всех граждан на пенсионное обеспечение. Однако расходы на социальную
поддержку граждан были незначительны, слишком много средств отбирали восстановление
народного хозяйства, ускоренная индустриализация, подготовка к надвигавшейся
войне с фашистской Германией.
В годы Великой Отечественной войны
главное внимание правительства было направлено на организацию социального
обеспечения военнослужащих и их семей. Важными направлениями стали социальная
реабилитация раненых, возвращение к производственной деятельности инвалидов,
увеличение количества детских домов для детей, оставшихся без попечения
родителей. В годы войны детей активно отдавали на воспитание в семьи. К концу
войны в семьях трудящихся России находилось 978 тыс. детей-си- рот, в СССР в
конце 40-х гг. — до 3,5 млн детей, потерявших родителей.
В 1950-1960-е гг. государство много
делало для развития народного образования, здравоохранения,
социально-культурной сферы. Дальнейшие улучшения пенсионного обеспечения связаны
с Законом о государственных пенсиях, принятым в 1956 г. В соответствии с ним
были определены три вида пенсий — по старости, по инвалидности и по случаю
потери кормильца, а также введены пособия матерям и учащимся. С принятием в
1964 г. Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов устанавливается всеобщее
государственное пенсионное обеспечение.
В начале 1970-х гг. особое внимание
уделяется развитию общественного фонда потребления. До половины его средств
расходовалось на удовлетворение социальных потребностей, 10% — на оплату
отпусков. Проводились мероприятия по оказанию помощи семьям, имеющим детей,
работающим матерям; усиливалось обеспечение многодетных матерей, были введены
дополнительные льготы по пенсионному обеспечению отдельных категорий работников.
Приобретение предметов потребления и бытовых услуг датировалось из общественных
фондов потребления. Система распределения исключила безработицу, обеспечивая
постоянную занятость, реализовала конституционные права всех граждан на труд,
на доступность отдыха, образования и охрану здоровья.
Специфической чертой советской модели
социального обеспечения была система двойного подчинения и контроля со стороны
вышестоящих и нижестоящих Советов всех уровней. Полномочия представительных
органов власти находились в прямой зависимости от их уровня во властной
иерархии. Местные Советы, которые были ближе всего к нуждам населения, обладали
значительно меньшими полномочиями и возможностями для решения проблем.
Система социальной защиты населения,
сложившаяся в советский период, носила универсальный характер и была
направлена на нивелирование любых форм социально-экономического неравенства.
Сфера общественной социальной помощи была незначительной. Частная
благотворительность и социальная деятельность практически отсутствовали, были
утрачены многие виды социальной поддержки, существовавшие в дореволюционной
России. Под влиянием атеистической идеологии был полностью ликвидирован
институт монастырской и церковно-приходской благотворительности.
Однако большинство граждан пожилого и
среднего возраста современной России оценивают советскую систему социальной
защиты населения достаточно высоко, связывая с ней лучшие страницы
государственной заботы о гражданах.
Советский период характеризуется
государственным патернализмом в сфере социальных отношений, характерными
чертами которого были:
§
приоритет социальной поддержки трудящегося
населения;
§
монополия и централизация социального
обеспечения;
§
широкий охват населения пособиями и
льготами, что способствовало росту социального иждивенчества.
Права трудящихся, закрепленные в
первой Конституции России, получили дальнейшее развитие в последующих
конституциях 1936 и 1977 гг. Так, в Конституции 1977 г. был закреплен основной
механизм развития социальной сферы, который был приведен в соотношение с
международно-правовыми актами о правах и свободах граждан.
За годы советской власти получил
развитие каждый компонент социальной сферы: из страны с неграмотным населением
Россия превратилась в одну из самых образованных стран мира; много было сделано
для решения жилищных проблем, создания системы здравоохранения, индустрии отдыха,
культуры и спорта.
За 1960 -1970 гг. реальные доходы на
душу населения увеличились на 5,9 %. Выравнивался уровень жизни в городе и
деревне. В то же время советские индикаторы качества жизни были значительно
ниже аналогичных показателей в США, а с конца 1950-х гг. — и развитых стран
Европы. Особенно быстро стал нарастать разрыв между качеством жизни в СССР и
странах Запада после ориентации этих стран на построение государства всеобщего
благоденствия.
Негативные тенденции в социальной
сфере резко усугубила экономическая реформа, развернувшаяся в начале 1990-х гг.
Распад единого социального, экономического и политического пространства
Советского Союза обусловил системный кризис, который привел к многочисленным
социальным проблемам: снижению уровня жизни большинства населения, безработице,
вынужденной миграции, падению уровня рождаемости и росту смертности, распаду
института семьи и брака. Появились такие негативные тенденции, как снижение
показателей уровня здоровья людей, усиление социальной дифференциации
общества. Соотношение между минимальной и максимальной заработной платой
составляло в этот период 1: 26, что характерно для социально неблагополучных
стран, когда в категорию нуждающихся вытесняется значительная часть
экономически активного населения. Отказ от идеологии государственного
патернализма привел к разрушению сложившейся в советский период системы
социальной защиты населения. Провозглашение ценностей свободы личности,
предпринимательства обусловливает переход от чрезмерно затратного социального
обеспечения к новой идеологии социальной политики.
Появление в начале 1990-х гг.
института профессиональной социальной работы в некоторой степени снижало
уровень социального неблагополучия. Профессиональная социальная работа стала
смягчающим буфером между невозможностью населения приспособиться к изменениям и
необходимостью проводить намеченные реформы в короткие сроки.
Решением Государственного комитета по
труду и социальным вопросам в 1991 г. перечень профессий Российской Федерации
был дополнен тремя относительно новыми специальностями: «социальный педагог»,
«социальный работник» и «специалист по социальной работе». Появление данных
профессий было связано с резким усилением спроса населения на различные виды
социальной поддержки. В начале 1990-х гг. в России на 10 тыс. населения
приходилось лишь 16 социальных работников, большинство из которых не имели
специальной подготовки.
История многих стран убедительно
показала, что в период обострения социальных проблем востребованным становится
институт социальной работы. Интеграция России в мировое сообщество сделала
возможным решение социальных проблем средствами профессиональной социальной
работы.
В этих переходных условиях
правительством разрабатываются экономические и социальные программы, а также
комплекс неотложных мер, направленных на выход России из кризиса. В декабре
1991 г. президентским указом «О дополнительных мерах по социальной поддержке
населения в 1992 г.» органам исполнительной власти предоставлялось
самостоятельное право определять формы социальной поддержки населения
(талонно-купонная, карточная, система целевой денежной компенсации и др.),
которые могли бы защитить население в условиях либерализации цен. Принимается
ряд законодательных мер в области защиты инвалидов, пенсионеров, семей с
детьми, военнослужащих: «О государственных пенсиях в РСФСР», «О дополнительных
мерах по охране материнства и детства», «О повышении минимального размера
оплаты труда», «О повышении размеров социальных пособий и компенсационных
выплат» и ряд других.
В 1994 г. правительством утверждаются
основные направления деятельности в области социальной политики. Среди мер
поддержки и защиты нетрудоспособных и малообеспеченных слоев населения
предполагалось улучшение пенсионного обеспечения, увеличение помощи семьям с
детьми, малообеспеченным, инвалидам. В области пенсионного обеспечения
предусматривались индексации пенсий в зависимости от роста цен на
потребительские товары, меры социального страхования, развитие
негосударственных пенсионных фондов. Совершенствовалась система социальных
пособий и компенсационных выплат в области охраны материнства и детства.
В этом же году была утверждена
федеральная программа «Дети России», включающая серию целевых программ
«Дети-сироты», «Развитие индустрии детского питания», «Дети Севера», «Дети
Чернобыля», которые внесли заметный вклад в улучшение положения детей.
Реализацию всех правительственных мер в области социальной защиты населения
начиная с 1990-х гг. осуществляло Министерство социальной защиты. С принятием
концепции развития социального обслуживания населения в Российской Федерации
(август 1993 г.) происходят отказ от принципов социального обеспечения
(государственного патернализма) и переход к системе социальной защиты
населения, принятой в европейских странах.
Высокий уровень инфляции обесценивал
действенность мероприятий правительства по повышению пенсий, заработной платы,
социальных пособий. Появление многочисленных социальных программ при их
недостаточном финансировании не смогло обеспечить качественный перелом в
социальной сфере. Остаточный принцип финансирования системы социальной защиты
населения сдерживал ее развитие.
В этот период стала активно
осуществляться подготовка специалистов социальной сферы в образовательных
учреждениях различного типа: университетах, институтах, колледжах, курсах. Параллельно
с ними стала развиваться, и система социального обслуживания населения —
главный потребитель подготавливаемых специалистов. Деятельность социальных
служб была направлена на предоставление социальных услуг, осуществление
социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В сложных социально-экономических условиях в кратчайшие сроки удалось
создать целую сеть новых социальных учреждений, ориентированных на конкретные
клиентские социальные группы.
Уже к 2003 г. система социальной
защиты РФ составляла 1 345 стационарных учреждений социального обслуживания,
которые предоставляли 200,9 тыс. мест для пожилых и инвалидов. Совместно с
органами здравоохранения создавались геронтологические и гериатрические центры,
больницы, отделения, дома милосердия. Несмотря на широкую сеть действующих
учреждений, потребность в них постоянно возрастает.
Основной проблемой, с которой
сталкиваются социальные работники, была необходимость активизации граждан,
формирования у них позиции личной ответственности за свое благополучие.
Важной задачей стал поиск технологий помощи, которые позволили бы осуществлять
переход населения от иждивенческой позиции на активно-деятельностную для
изменения неблагоприятных жизненных условий.
Однако деятельность социальных
учреждений показывает рост числа клиентов социальных служб, а также клиентских
групп — «групп риска». Это связано во многом с ухудшением качества жизни
большинства населения.
О социальных последствиях жестких
рыночных реформ, проводимых в России в последние десятилетия, убедительно
свидетельствуют данные статистики предельно-критических показателей развития
Российской Федерации, приведенные в докладе академика РАН Г. В. Осипова на II
Всероссийском социологическом конгрессе в 2003 г.
Российское общество еще не во всем,
но во многом пытается полагаться на себя. Проявляется инстинкт самовыживания
народа, социогенетически заложенный в нем сотнями лет драматического
развития. Единого, устоявшегося мнения о том, каким должен быть российский
порядок, сегодня в массовом сознании нет. В идеальном образе присутствуют
государственный патернализм и свобода от диктата и произвола государства,
понимание роли права и законности как основы социального порядка. Успех страны
в ближайшей перспективе зависит от того, будут ли реформы проводиться в пользу
всего населения или за счет него. До той поры, пока в России не возникнет
развитое гражданское общество с его способностью к саморегуляции, государство
не имеет права самоустраняться от решения жизненно важных проблем.
Российская модель социальной работы
формируется с учетом специфики современного этапа развития страны. Ее основными
чертами являются:
§
активный характер социальной работы, ориентированный
на сохранение условий, позволяющих включать в работу самих клиентов как
субъектов социального действия. Тем самым создается своеобразный
саморазвивающийся механизм, поддерживающий проявление людьми взаимной заботы,
взаимопомощи и милосердия, создающий благоприятный микроклимат в социуме;
§
стремление к реализации адресности,
целевого характера социальной работы, что выражается в выработке принципов и
положений, правовых норм, обеспечивающих социальную защиту дифференцированных
групп населения, в осуществлении мер по поддержке достойных условий
существования конкретным нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных
потребностей и в соответствии с установленными критериями;
§
превентивный характер социальной работы,
предусматривающий осуществление профилактических мер по предупреждению
социальных патологий и девиантных форм поведения.
Возникает высокая общественная
потребность в социальном партнерстве, сотрудничестве по сглаживанию различных
социальных конфликтов и устранению социальных проблем. Важную роль в развитии
гражданского общества может играть негосударственная социальная деятельность
на добровольческой безвозмездной основе. Развитие института социальной работы
в современной России должно осуществляться в русле возрождения существовавших
до революции 1917 г. институтов общественной поддержки, обеспечивающих
преемственность отечественных традиций взаимопомощи.
Список использованных источников:
1.
Антология социальной работы: в 5 т. /
сост. М.В.Фирсов. — М., 2013-2014. — Т. 1-3.
2.
Иванова Н. П.,
Историко-педагогические предпосылки развития социальной работы в России
(вторая половина XIX — начало XX века): ав- тореф. дис. канд. пед. наук. — М.,
2013.
3.
Исторический опыт социальной работы в
России. — М., 2012.
4.
Калашников С.В.,
Очерки теории социального государства. — М., 2013.
5.
Лыткин В. А.,
История социальной работы в России. — Калуга, 2014.
6.
Материалы по истории социальной работы в
России: учеб. пособие для вузов / под ред. П.Я.Циткилова. — Новочеркасск,
20136.
7.
Осипов Г. В. Российская
социология в XXI веке. // Отечественный журнал социальной работы. — 2004. — №
1. — С. 48.
8.
Социальная работа: учеб. пособие / под
ред. В. И. Курбатова. — Ростов н/Д, 2014.
9.
Социальная политика: парадигмы и
приоритеты / под общ. ред. В. И. Жукова. — М., 2014.
Вопросы и задания
1.
Перечислите основные формы взаимопомощи и
взаимоподдержки в Древней Руси.
2.
В чем особенность церковно-приходской
благотворительности в XVI—XVII вв.?
3.
Охарактеризуйте реформаторскую
деятельность Петра в становлении государственной системы социального
призрения.
4.
Раскройте специфику организации
общественного призрения, сложившуюся в дореволюционной России.
5.
Перечислите основные направления социального
обеспечения граждан в первые годы Советской власти.
6.
Каковы социальные последствия либеральных
реформ в России в 1990-е гг?
Темы для докладов и рефератов
Роль социального призрения в истории
России.
Исторические примеры
благотворительности.
Возможности меценатства и
благотворительной деятельности в современной России.
Социальная работа как социальный
институт.
История социальной работы
-
Скопировать в буфер библиографическое описание
Холостова, Е. И. История социальной работы : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08377-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433658 (дата обращения: 21.03.2023).
-
Добавить в избранное
Учебное пособие для академического бакалавриата
-
Холостова Е. И.
2019
Страниц
137
Обложка
Мягкая
Гриф
Гриф УМО ВО
ISBN
978-5-534-08377-4
Библиографическое описание
Холостова, Е. И. История социальной работы : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08377-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433658 (дата обращения: 21.03.2023).
Показать все
В учебном пособии изложены основные вопросы и проблемы по истории социальной работы в России, начиная с X в. по настоящее время. Анализируются различные формы благотворительности, рассматривается становление государственных форм социальной помощи, раскрывается роль земств и крестьянских общин по социальной поддержке населения. Особое место отводится развитию социального обеспечения в годы советской власти. Для закрепления материала каждая глава сопровождается контрольными вопросами, а также списком литературы, работа с которым позволит расширить знание по теме.
Кунилова Ксения
Эксперт по предмету «Социология»
преподавательский стаж — 5 лет
Задать вопрос автору статьи
Социальная работа и ее история
Социальная работа является одним из видов серьезной профессиональной деятельности. Если изначально она была распространена лишь среди некоммерческих организаций, волонтеров и добровольцев, то чуть позже, после осознания ее необходимости в социальной и властной структуре, социальная работа стала полноценной специальностью, которой обучают в высших учебных заведениях.
Среди основателей социальной работы стоит выделить Мэри Ричмонд (1853-1949 гг., Соединенные Штаты Америки). В большей степени она посвятила себя и свою жизнь благосостоянию и благополучию детей и женщин. Она была основательницей или соосновательницей ряда женских групп, в которых играла ведущую роль. Среди них такие, как «Лига Матерей», «Новозеландское общество защиты женщин и детей», а также так называемое женское социальной движение. Тем не менее, ее нельзя назвать феминисткой, поскольку Мэри Ричмонд не искала равные права для женщин, но при этом она отстаивала их право иметь достойный уровень жизни, помогала тем, кто отчаялся и оказался в трудной жизненной ситуации.
Сделаем домашку
с вашим ребенком за 380 ₽
Уделите время себе, а мы сделаем всю домашку с вашим ребенком в режиме online
Важное значение на формирование современной социальной работы и ее технологии оказали принципы Эльберфельдской системы. Более всего они распространились на территорию Германии и Франции, но чуть позже этот опыт подхватили многие другие зарубежные страны. В основе этих принципов, во-первых, самостоятельное принятие решения каждым попечительством, выбор собственной стратегии и технологии, которая будет максимально эффективно удовлетворять потребности нуждающихся категорий населения. Во-вторых, детальное обследование нуждающегося, его материального, социального статуса, уровня доходов, психического и физического состояния для того, чтобы индивидуализировать помощь. В-третьих, привлечение всех слоев населения к работе с бедными. Очень важно показать каждому человеку, что нуждающийся – такой же, как и он, обладает теми же правами и свободами.
История социальной работы в России
Что касается социальной работы в России, а также особенностей ее развития, то стоит отметить, что многие века на Руси складывались принципы милосердия, а также благотворительности. Это может отражать особенности менталитета русского человека. Без опоры на эти традиции не может складываться социальная работа, ее принципы, в особенности в России, с ее особым восприятием окружающего мира и ситуаций.
«История социальной работы» 👇
Определение 1
В общем виде, социальная работа – это вид деятельности, которая направлена на организацию помощи и обеспечения различным слоям населения, которые в ней нуждаются. Спектр оказания помощи очень широк: это может быть прямая помощь от одного человека к другому, путем межличностного отношения и общения. Также может оказываться помощь человеку со стороны общины, от взрослого – ребенку, от здорового человека – больному, немощному, а также лицу с ограниченными возможностями.
Один из ключевых факторов, который послужил возникновению в России социальной работы как отрасли знания – это указ Госкомтруда СССР от 1991 года. В нем говорилось о том, что в обществе появилась нужда во введении совершенно новой профессиональной квалификации в учебные заведения по различным формам обучения – квалификация «социальный работник». С этого же момента начинаются достаточно активные исследования по истории социальной работы, а также по ее теории, функциям, целям и задачам, а также направлениям, по которым она осуществляется в первую очередь.
Замечание 1
Но стоит отметить, что исследования, которые посвящены истории социальной работы конкретно в России очень мало, от чего складывается впечатление, что она появилась как раз лишь в начале 90-х годов 20 века. Но на самом деле историческое становление социальной работы в России прошло несколько этапов.
Этапы развития и становления социальной работы
Толчком для становления и развития благотворительности в России стало принятие христианской веры еще в 988 году. Жены великих князей, согласно летописям, отличались благочестивостью и мудростью, и призывали людей относиться друг к другу с любовью, хранить верность, помогать слабым и беззащитным. После того, как было принято христианство социальная помощь и благотворительность сосредоточились в церквях и монастырях.
При Екатерине второй начали открываться госпитали, смирительные дома, где содержались и обучались сироты. В монастыри стали принимать солдат и тех, кто хотел посвятить себя вере и службе человеческому благополучию. Чуть позже в каждой губернии России были приняты указы об общественном призрении – помощь нуждающимся, бедным, сиротам, немощным старикам, а также тем, кто пострадал во время военных действий.
В целом становление общественной работы в истории России, а также историю общественного призрения принято подразделять на несколько ключевых этапов:
- С 996 года по 14 век – архаический период, где в основном правят формы общинных и родоплеменных способов социальной помощи;
- С 14 века по 17 век – период монастырской и церковной благотворительности, а в 14-15 веках также княжеская благотворительность в отношении нуждающихся;
- С 1701 года по 1775 год – период государственного призрения;
- С 1775 года по 1801 год – период общественного и частного призрения;
- С. 1801 года по 1818 год – также период государственного призрения, но с большой долей частного вмешательства, что затем обозначит переход в новую эру 20 века. Также данный период характеризуется резким ростом количества учреждений, которые готовы не только оказывать помощь нуждающимся, но и размещать их у себя.
Данную этапизацию предложил А. Стог, указывая на том, что помимо типологии процесса каждый этап отражает особенности динамики развития социальной работы и благотворительности в России. Каждый из этих этапов связан с особенностями выделения субъекта социальной работы, ее объектов, а также институтов поддержки и идеологии помощи. Помимо этого, меняется понятийный язык, появляются новые термины и понятия, которые вводятся для обозначения того или иного вида социальной работы (обеспечение, защита, страхование).
Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу
Поиск по теме


Подборка по базе: план работы со слабоуспевающими.doc, 2. История зарубежной педагогики.doc, анализ работы мо кл рук.docx, критерии оценивания история.docx, Цыбульский Рамин история 1-4 четверть.docx, Задание 2 История государства и права России (1).doc, Тарабрина история рекламы.pptx, план-график работы со слабоуспевающими.docx, КР история РГППУ.doc, Слова история.docx
История развития социальной работы в России.
Основными факторами образования новой для России отрасли знания послужили указы Госкомтруда СССР (1991 года) о введении новой профессиональной квалификации – социальный работник и введении той же специальности в учебные заведения по различным формам обучения. В создавшихся условиях научная мысль вплотную занялась вопросами организации инфраструктуры помощи, с практическими методами поддержки нуждающихся, образовательными проблемами подготовки специалистов, определением научного статуса новой дисциплины.
С 1992 года начинаются исследования по истории и теории социальной работы. Причем, в современных трудах рассматривается или отечественный, или зарубежный опыт работы. Исследований по истории социальной работы в России настолько мало, что может возникнуть впечатление, что она появилась только в начале 90-х гг. ХХ в. Поэтому выбор темы «История развития социальной работы в России» актуален и не случаен.
Предметом нашего исследования стали источники, указы, инструкции, положения, циркуляры, а также труды историков, ученых Карамзина, М. Забылина, П. Нищеретного, П. Я. Циткилова, В. А. Сущенко, Л. В. Бадя, М. В. Фирсова, В. И. Курбатова, Л. И. Деминой, В. Н. Егошиной, Е. И. Холостовой, Л. Г. Гусляковой, В. И. Жукова, А. И. Лященко, В. Е. Давидович, А. Спицкой.
Анализируя источники и взгляды, мы старались:
1) показать, что благотворительность – явление закономерное, была присуща России, начиная с архаического периода родо-племенных отношений;
2) собрать, рассмотреть и систематизировать все источники для видения социально-исторического процесса общественной помощи и общественного призрения;
3) рассмотреть исторические модели социальной помощи каждого периода;
4) выявить, что сделано предшествующими поколениями в этой области;
5) критически осмыслить имеющийся материал с учетом тенденций и перспектив для применения положительного опыта и работы в современных условиях.
На самом же деле история социальной работы в России насчитывает более тысячи лет. В учебнике «Основы социальной работы» Павленок П. Д. пишет, что «Началом ее следует считать договор 911 г. князя Игоря с греками, который содержал в себе моменты, называемые ныне социальной работой».1
Согласно «Повести временных лет», составленной в XII в. киевским монахом Нестором, которая послужила источником для работ Карамзина по «Истории государства Российского», отмечается не только жестокость славян в бою, но и их гостеприимство, а также то, что они «славились почтением к родителям и всегда пеклись об их благосостоянии».2 У М. Забылина есть интересный материал об обычаях, обрядах русского народа, в котором говорилось, что «в специально построенных гонтинах, или храмах, менее священных, имелись одни лавки и столы для народных сходбищ, на которых угощали все население».3
Подлинным толчком для развития благотворительности в России стало принятие христианства в 988 году. «Отменная набожность, усердие строению храмов и милосердие к нищим снискали любовь общую» к Ивану Калите, Владимиру Волынскому, Георгию Долгорукому, Андрею Боголюбскому, Святославу Киевскому, Олегу, Владимиру Мономаху, Святополку, Изяславу, Ярославу Мудрому. В летописи отмечается, что «в 1209 году первой женой Всеволода была Мария, родом ясыня, славная благочестием и мудростью. Она призывала сыновей жить в любви, что междоусобица губит князей и отечество, возвеличенное трудами предков, советовала быть трезвыми, приветливыми и в особенности уважать старцев».4 Летописец хвалит ее за многие благотворительные деяния. Многие благородные дела князей Нестор отмечает действием христианского учения: гуманность, вера в силу добра, убежденность в важности человеколюбия, помощь ближнему – явились непреложными истинами.
После принятия христианства средоточием социальной помощи стали церкви и монастыри. «Под их руководством люди учились понимать и исполнять заповедь о любви к ближнему», — считает автор работы «Исторические корни и традиции развития благотворительности в России» П. И. Нищеретний. «Любить ближнего – это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего».5
Идея государственного призрения, сформулированная Стоглавым собором в правление Ивана Грозного не была реализована никем из его преемников, хотя благотворительностью занимались царь Федор, последний из династии Рюриковичей, Борис Годунов, Василий Шуйский, Михаил Федорович, Алексей Михайлович.6
Конец эпохи нищелюбия пришелся на время царствования Петра I. По его инициативе были открыты госпитали, смирительные дома, содержание и обучение сирот и солдат в монастырях. Система государственного призрения в России сложилась при Екатерине II, издавшей в 1763 году указ об открытии в Москве, а затем в Петербурге воспитательного дома. А в 1773 году во всех губерниях России были созданы приказы общественного призрения, занимающиеся вопросами помощи нуждающимся.7
Период с 1861 по 1917 гг. принято считать временем расцвета российского предпринимательства. Так оно и было на самом деле. «Впервые за всю предыдущую и последующую историю России самостоятельные люди получили возможность свободного развития, реализации всех заложенных в них деловых качеств»8, — считает В. А. Сущенко в «Истории российского предпринимательства». Причиной такого всплеска благотворительности автор исследования видит в мощном развитии экономики страны. «Стык 2-х столетий ознаменовался настоящей транспортной революцией, совершенствованием путей сообщения; созданием системы коммерческих банков, ростом крупной индустрии, в первую очередь машиностроения с широким привлечением частного русского и иностранного капиталов. В торговле произошел переход от ярмарок, как основного места сделок, к биржам. На первое место среди сфер приложения частного капитала окончательно выступают крупная промышленность и финансовые операции».9
Такого же взгляда придерживается и Л. В. Бадя в историческом очерке «Благотворительность и меценатство в России». Он считает, что размаху благотворительной деятельности способствовали не только «накопление капитала, что создавало материальную основу для ускоренного развития общественной и частной благотворительности, но и поощрительное законодательство».10 Однако, на наш взгляд, и В. А. Сущенко, и Л. В. Бадя очень сильно идеализируют деятельность отечественных предпринимателей. «Являясь в большинстве своем капиталистами и по рождению, и по роду занятий, они сумели подняться над узкоклассовыми интересами определенных социальных групп и сознательно действовали для достижения общенациональных целей».11
К этой группе авторов присоединяется М. В. Фирсов в серии исследований по истории социальной работы в России. «Капитализм не только породил новые формы угнетения, обострил многие противоречия социальной действительности, но и создал новые социальные условия, определил новые задачи в духовной и культурной жизни».12
Почему же социальная работа возникла в России не в начале ХХ столетия, как в странах Запада, а в его конце?
Ответ на этот вопрос дает В. И. Курбатов, автор учебника «Социальная работа». Он предлагает вспомнить, что начало ХХ в. в России «было отмечено повышенным интересом к политике, который отодвинул на второй план проблемы экономики и социальной сферы. Две войны (русско-японская и первая мировая), а также три революции принесли свои результаты – построение социалистического общества».13
Исходя из этого, В. И. Курбатов выделяет две причины, по которым социальная работа не возникла в России в начале XIX в. «Первая связана с «огосударствлением общественной жизни после октября 1917 г. Советское государство установило свой контроль над экономикой, политикой и социальной сферой. Фактически оно взвалило на себя заботу обо всех гражданах, хотя у него не было ни средств, ни умений на ее осуществление».14 Деньги из бюджета тратились на оборону, на содержание бюрократического аппарата, а не на подготовку специалистов такого профиля.
«Вторая причина — «благотворительность всегда была объектом отрицательного отношения со стороны марксизма», «является завуалированной формой эксплуатации трудящихся, поскольку буржуазия, занимаясь ею, возвращает «эксплуатируемым сотую часть того, что им следует по праву».15
В отличие от стран Запада, которые в начале ХХ в. развивали у себя профессию социального работника, Советская Россия в решении помощи нуждающимся пошла по бюрократическому пути. Она отдала эту проблему на откуп государственным чиновникам, которые не проявляли особого интереса к непосредственной работе с нуждающимися.
Грубой ошибкой рабоче-крестьянского государства, — считает М. В. Фирсов, — была ликвидация частной, общественной и церковной благотворительности.16 Все это, в «конечном счете привело к тому, что в нашей стране, — по мнению группы авторов Л. В. Бадя, Л. И. Деминой, В. Н. Егошиной, — в начале 90-х годов социальная деятельность начала свое становление и развитие в современном значении этого понятия».17
Социентальные подходы в истории и теории социальной работы представлены в исследованиях Е. Холостовой и И. Зайнышева, которые считают, что «генезис социальной работы связан с социальными процессами, которые являются предметной областью социальной работы».18
Деятельностный подход в истории и определении сущности социальной работы представлен в работе Л. Гусляковой. Социальная работа определяется как разновидность социальной деятельности, как система социальной защиты, как деятельность государственных организаций и отдельных лиц по оказанию помощи, как деятельность по восстановлению и сохранению психоментальных и социентальных связей индивида со средой».19
Проблемы, связанные с раскрытием понятий «социальная справедливость», с организацией управления социальной работой в России рассматриваются через исторический экскурс в работах В. И. Жукова, В. Е. Давидович, А. И. Лященко.
Свое отражение понятие «социальная работа» находит и в официальных государственных документах. Так, в Концепции развития социального обслуживания населения в Российской Федерации дается следующее определение социальной работы: «…профессиональная деятельность, осуществляемая профессионально подготовленными специалистами и их добровольными помощниками, направленная на оказание индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц, попавших в трудную для них жизненную ситуацию, через информирование, диагностику, консультирование, прямую натуральную и финансовую помощь, уход и обслуживание больных и одиноких, педагогическую и психологическую поддержку, ориентирующую нуждающихся в помощи на собственную активность по разрешению трудных задач, помогающих им в этом».
Основываясь на упомянутых работах исследователей и ученых, мы с уверенностью можем сказать, что благотворительность и социальная работа существовали в России с архаических времен. Но в историографии социальной работы еще много белых пятен по истории краев, областей, республик, страны. Предстоит изучить большой пласт источников, восполнить недостающие знания по истории социальной работы в России.
Глава 1. Методологические проблемы историографии социальной работы
Методологические проблемы историографии социальной работы в России образуют три направления исследований:
понятия социальной работы;
периодизации процесса помощи;
источников, необходимых и достаточных для осмысления социальной работы как культурно-исторического феномена.
Термин «социальная работа», используемый во многих отечественных научных журналах, появился в широкой научной практике сравнительно недавно, в конце 80-х – начале 90-х годов. Перенесенный из научной традиции американской системы помощи, он сыграл свою как позитивную, так и негативную роль.
Традиционно в американской литературе семантическое значение термина «социальная работа» раскрывается как специфическое научное знание и как профессиональная деятельность в обществе. Переход термина с данным значением в отечественную и общественную практику привел к тому, что подходы к научному познанию и к профессии, потребность в которых ощущалась в результате появления новых социально-экономических традиций, обусловленных разрушением единого геополитического пространства СССР, носят ориентацию, свойственную скорее американской системе помощи. «Некритическое присвоение термина, несмотря на объективность процесса его перенесения, размывает именно отечественные ориентиры как научного познания, так и общественной практики».1
Формируясь как самостоятельная научная парадигма, социальная работа вызвала у отечественных авторов достаточно большой разброс мнений относительно области ее познания. Одни исследователи предлагают положить в ее основу изучение механизмов реализации жизненных сил и социальной субъектности индивида2, другие – социальную деятельность, изменяющуюся под влиянием различных факторов3, третьи – социальные отношения, возникающие в результате взаимодействия клиента и социальных служб.4 Отсутствие четко определенной области познания социальной работы осложняет осмысление ее исторической практики, поскольку при столь разных подходах достаточно трудно реконструировать исторический аспект существования выделяемых феноменов.
Еще «одна грань проблемы раскрывается при попытке редуцировать смысловое значение понятия в контексте иного феноменологического ряда, понятийного поля».5 Определяющую роль при этом играет акцент на первую часть термина – социальная, социальность. «Это приводит к тому, что смешиваются познавательные ориентиры, которые направляются не нам сам процесс, а на определяющие его условия».6 В результате все многообразие социальной работы сводится к одной из ее форм – социальной практике, понимаемой в контексте социальной истории.7
Жестокая детерминация причинно-следственных связей социальной истории народа и истории процесса помощи не дает объективных, научных представлений не только о его жизни, но и о стадиях и этапах его развития. История других дисциплин, таких как психология, физика, филология и т. д., наглядно показывает наличие специфики. «Социальная история, — считает М. В. Фирсов, — есть только контекст, фон». Его учитывают при построении модели исторического процесса того или иного знания, но при этом осуществляется поиск своих детерминант, своих фаз, стадий развития, спада.
И, наконец, третья грань проблемы исследования понятия «социальная работа» связана с логикой научного мышления. Потребность в профессиональной деятельности по защите и поддержке выдвигает сегодня определенные принципы ее организации, которые базируются на синхронических подходах – «здесь и теперь». Это приводит к тому, что в отечественной науке о помощи развивается определенный тип мышления, при котором проблематика познается в мультикультурном контексте, на фоне существующего западноевропейского опыта, чему способствует единство категориально-понятийного аппарата, поскольку, во многих странах Западной Европы оказание помощи связано с данным унифицированным понятием.
Существует и субъективная научная потребность в синхронических сопоставлениях и ориентирах. Долгое время отечественная гуманитарная наука не имела возможности осмыслять свои шаги в контексте современных западных веяний и тенденций вне идеологического противопоставления социальных систем. Более того, отечественная социальная работа в ХХ в. Не имеет научных традиций, которые мы наблюдаем в других познавательных сферах, к тому же проблемы ее общественной практики не являлись предметом специального научного рассмотрения. По отношению к другим формам общественной поддержки, существовавшим в разное историческое время в России, социальная работа на рубеже нынешнего века выступает как определенная национальная система помощи, характеризующая культурно-исторический этап, на котором понятие идентифицирует способы и идеологию помощи, ее общественную практику и философию.
Рассматривая социальную работу как определенную культурно-историческую модель, парадигму помощи, мы тем самым включаем ее в ряд таких моделей помощи, как социальное обеспечение, общественная благотворительность, общественное призрение, княжеская благотворительность, «слепня», «помочи», то есть тех стадий культурно-исторического развития, которые проходит отечественная система помощи и защиты.
Изменение содержания понятия – явление объективное, оно идентифицирует определенный исторический этап развития процесса помощи и взаимопомощи, и смена понятия, как правило, ведет к смене ее модели. Эту закономерность мы наблюдаем не только в отечественной, но и в мировой практике.
Во Франции с XI по XVII вв. деятельность по оказанию помощи определяется как «cha rite» — «благотворительность», с XVIII по ХХ вв. как «assistance» — «содействие», аналогичное по семантическому значению славянскому «призрение». В первой половине ХХ в. происходит изменение понятия, деятельность по оказанию защиты и поддержки определяется как «aide» — помощь, поддержка, и, наконец, с середины 50-х годов, как и во многих странах Западной Европы, данная деятельность получает унифицированное название «социальная работа».8 То, что изменение названия есть объективный процесс, связанный с изменением модели помощи, подтверждает опыт Германии, Бельгии, США и других стран.9
В связи с этим можно предположить, что содержание понятия «социальная работа» также изменится, поскольку процесс флуктирует от одних состояния и идеологии помощи к другим, и ее сегодняшняя форма не является конечной.
Таким образом, расширяя понятие «социальная работа» не только в пределах «профессия – наука», но и понимая под этим определенную культурно-историческую модель помощи, мы приобщаемся к той традиции, которая была присуща отечественной историографии общественной помощи в XIX в., тем самым находя базисные флектиры отечественной науки.
Одна из первых работ, посвященных истории помощи, где рассматриваются стадии развития национальной системы поддержки и защиты нуждающихся, принадлежит отечественному ученому А. Стогу. В работе «Об общественном призрении» им в 1818 г. впервые обозначены основные этапы развития отечественной системы помощи. Характерно, что автор рассматривает историческую разноплановую деятельность, различные формы помощи в логике целостного подхода. Всю совокупность мер и форм поддержки на различных временных этапах он предлагает рассматривать как проявление одной формы, единого паттерна, характерного для его (Стога) исторического времени – общественного призрения. Эволюцию этой системы в ее временном, культурном, историческом своеобразии отражает, по мнению ученого, российское законодательство об общественном призрении, которое и является основой для исторической реконструкции процесса помощи в России. Рассмотрение этапов становления государственного института поддержки с исторических позиций наметило особую канву периодизации, не совпадающей с периодизацией становления российской государственности.
Историю общественного призрения в России А. Стог делит на пять основных этапов:
первый – с 996 г. по XIV столетие;
второй – XIV-XVII вв.;
третий – с 1701 по 1775 гг.;
четвертый – с 1775 по 1801 гг.;
пятый – с 1801 по 1818 гг.
Отличительная особенность периодизации А. Стога, помимо типологии процесса, заключается в стремлении показать его динамику. Поэтому не случайно четвертый и пятый этапы связаны как с изменением административно-территориальной системы управления, так и с теми тенденциями помощи, которые наметились в период правления Екатерины II и были связаны с учреждением приказов общественного призрения.
Периодизация, предложенная А. Стогом в начале XIX в., была принята его современниками, а национальную систему общественной благотворительности стали связывать с мерами правительства в этой области. Аналогичный подход, только содержащий более точные исторические ориентиры, предложен в работе «Историческое обозрение мер правительства по устройству общественного призрения в России». Периодизация общественного призрения связывается в ней с принятием основополагающих указов и постановлений в этой области. Первая группа указов относится к временному отрезку от 988 г. (указы князя Владимира I) до 1682 г. (указы царя Федора Алексеевича), что соответствует первому этапу становления общественной благотворительности. Второй этап включает время с 1682 г. по 7 ноября 1775 г., то есть до учреждения приказов общественного призрения; третий – с 7 ноября 1775 г. по 1 января 1864 г., когда было принято положение о земских учреждениях. Основу такой классификации составляет принцип изменения институтов помощи в соответствии с выходом постановлений и правительственных мер.
К концу XIX в. намечаются культурно-исторические подходы к исследованию развития национальной системы общественного призрения. Национальную систему помощи связывают не только с деятельностью государства и его институтов, она рассматривается значительно шире. К тому же начинают исследовать более ранние формы помощи, существовавшие у славянских племен до принятия христианства на Руси.
Примером данного подхода к периодизации служат работы Е. Максимова. Взяв за основу периодизацию исторического процесса развития системы общественной помощи, предложенную А. Стогом, Е. Максимов несколько изменяет хронологию этапов с учетом тех реалий, того уровня науки о помощи, которые сложились к концу XIX столетия.
Прежде всего, Е. Максимов определил, что «общественное призрение» — это явление и понятие, исторически обусловленные. Поэтому, следуя хронологическим рамкам, принятым в то время, он назвал первый период благотворительным (идея общественного призрения еще не сформирована, а помощь носит стихийный характер). Второй этап совпадает со становлением государственности, именно в этот период зарождается идея государственной помощи, которая в третьем периоде не только приобретает обоснованную идеологию, но и оформляется в систему общественного призрения. Четвертый этап Е. Максимов интерпретирует с позиций оформившихся тенденций, которые только намечались в то время, когда были написаны труды А. Стога. По мнению ученого, период, включающий время правления царей от Павла I до Александра II, характеризуется укреплением тенденций организованной государственной помощи, а также включением в этот процесс «общественных организованных сил». И, наконец, последний этап, пореформенный, связан с попытками решения вопросов бедности и пауперизма, и с оформлением нормативно-правовой базы общественного призрения.
Историография государственной помощи XIX в. ищет те доминанты, которые позволяют определить основу исторического процесса, механизм изменения, заставляющий осуществлять переход от одной модели помощи к другой. В этом отношении показательны работы В. Герье и А. Якоби.
В. Герье считал, что, несмотря на культурно-историческое многообразие традиций, форм и способов помощи, развивающихся в различные эпохи, все их можно свести к основным формам: милостыня, благотворительные учреждения, попечительство. Три формы помощи характеризуют три стадии, три, как бы сегодня сказали, парадигмы общественной поддержки нуждающихся. Таков один из первых отечественных подходов к мультикультурному осмыслению феноменологии помощи, накладывающий определенный отпечаток на отечественную историографию общественной помощи.
Другой подход в логике мультикультурного осмысления истории развития общественной помощи предпринят А. Якоби, который считал, что исторические законы можно открыть только при рассмотрении процесса в пределах больших периодов и отрезков времени. На материале исторической и географической патологии возможно выявление фаз развития благотворительности, которые следуют за пандемическими (одновременное страдание многих людей) факторами. Следуя логике такого подхода, изучение благотворительности в ее историческом развитии осуществляется путем рассмотрения массовых бедствий: голода, войны, эпидемии.
Историографии отечественной системы помощи в XIX в. развивается, как видим, путем экстраполяции идей и подходов исторической науки: с периодизацией, точной хронологией, исторической событийностью. Однако намечаются тенденции к выяснению научной исторической логики на основе динамики процесса помощи в национальной и мультикультурной заданности.
В советский период истории российской государственности подходы к исследованию проблем помощи в их исторической обусловленности, в частности, к вопросам периодизации, претерпевают существенное изменение. Идеология нового времени обусловливает переосмысление взаимодействия людей в общности, вырабатывается иной взгляд на проблему помощи и благотворительности: «Ввиду того, что существующее название Народного Комиссариата Государственного призрения не соответствует социалистическому пониманию задач социального обеспечения и является пережитком старого времени, когда социальная помощь носила характер милостыни, благотворительности, Совет Народных Комиссаров постановляет: переименовать Народный Комиссариат Государственного Призрения в Народный Комиссариат Социального обеспечения».
Социальное обеспечение становится той парадигмой помощи, которая на долгое время утвердилась в качестве ведущей формы поддержки различных категорий нуждающихся, постепенно оформившись в систему государственного обеспечения.
В контексте нового времени государственная система социального обеспечения, этапы ее развития рассматривались исключительно в логике становления не российской, а советской государственности с точкой отсчета с ноября 1917 г. Если в ранних работах, посвященных государственной системе социального обеспечения, хотя и в негативном смысле, все же упоминалось о существовании предшествующих систем защиты и поддержки, то в работах более позднего периода о них нет ни слова.
Характерная особенность периодизации государственной системы помощи советского периода – ее неразрывная связь с документами партии и правительства, которые служили вехами для обозначения этапов развития системы государственного обеспечения. Такой подход обусловил синхронический принцип периодизации, распространившийся на осмысление не только системы помощи в целом, но и ее отдельных направлений, таких как социальное страхование, социальное обеспечение, опека и попечительство и ряда других. Такая тенденция сохранилась до начала 90-х годов.
Сегодня, — отмечает М. В. Фирсов, — мы должны подойти к отдаленному прошлому без излишней идеализации, не допустимо рассматривать советский период как время геноцида и тотальной коммунизации в области социальной помощи. Необходимо увидеть в различных номинациях и исторических эпохах движение единого процесса со своей логикой, с историческим образом.
Хочется повторить вслед за Ж. — П. Сартром, «что парадигма помощи существует сама по себе, имея самостоятельный социальный, культурный, этнический, исторический уровень существования».9
Что же является основой различных моделей поддержки и защиты одних слоев общества другими? «Представляется, что это – процесс помощи и взаимопомощи в культурно-исторической общности».10
Во-первых, этот феномен имеет социогенетическую обусловленность, которая представлена своей историей и генезисом индивидуального развития в социально-исторической перспективе.
Во-вторых, в процессе своего развития данный феномен находит интерпретацию в структурных сценариях и закреплен в массовом сознании в языковых формах и структурах.
В-третьих, он имеет исторические, вещные и деятельностные формы существования со своими субъектами, объектами и идеологией помощи, что, в конечном счете, определяет его социально-генетическую типологию как явления, процесса и феномена культуры.
Рассматривая способы помощи и взаимопомощи в их культурно-исторической перспективе, можно отметить то особое социальное поле, где намечаются различные типы взаимодействия между субъектами со своими принципами и законами. Призрение нищих и юродство, организация детских приютов, обучение глухонемых и трудовая помощь, благотворительность и социальное страхование – явления этого и других рядов имеют собственную логику исторического развития, систему существования, место в историческом процессе.
Такой подход позволяет нам рассматривать не только ранние формы поддержки, которые, как правило, связывают с принятием христианства на Руси, но и архаические родовые формы, которые были архетипическими формами всех последующих систем помощи и защиты.
Предлагаемая нами периодизация, с одной стороны, следует традициям русской дореволюционной историографии в области общественного призрения, с другой – мы выделяем иную логику развития процесса, исходя из идеи социогенетического оформления и развития способов помощи и взаимопомощи у этнических групп в их культурно-исторической перспективе.
Каждый этап изменения парадигмы помощи и взаимопомощи связан с изменением субъекта и объекта, которые могут расширяться или сужаться, институтов поддержки, идеологии помощи, с изменением понятийного языка (семантического плана), номинации процесса и обусловлен пандемическими процессами, такими как смена идеологии, разрушение геополитического или социокультурного пространства, глобальные эпидемии, региональные, этнические, социально-экономические войны и конфликты, массовый голод.
Таким образом, в качестве основных этапов развития помощи и взаимопомощи в России, имеющих различную номинацию данного процесса, целесообразно представить следующие периоды:
1. Архаический период – родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи у славян до Х в.;
2. Период княжеской и церковно-монастырской благотворительности – XII-XIII вв.;
3. Период церковно-государственной помощи – с XIV в. по вторую половину XVII в.;
4. Период государственного призрения – со второй половины XVII в. по вторую половину XIX в.;
5. Период общественного и частного призрения – с конца XIX в. до начала ХХ в.;
6. Период государственного обеспечения – с 1917 по 1991 гг.;
7. Период социальной работы – с начала 90-х годов по настоящее время.
Приведенная периодизация позволяет наметить концептуальную схему исторического процесса развития помощи и взаимопомощи, выделить специфическую социальную историю процесса в ее единичности и в то же время в контексте глобальных исторических факторов.
Значительный пласт проблем в историографии современной науки о помощи связан с источниковедением. На сегодняшний день отечественное источниковедение социальной помощи делает только свои первые шаги. Основная задача сегодня – собрать все источники по общественной благотворительности, общественному призрению не только XIX, но и ХХ вв. Необходимо выяснить что сделано предшествующими поколениями ученых в этой области.
Вторая важнейшая задача – критическое осмысление уже существующего материала с учетом тенденций и перспектив новой научной парадигмы о помощи.
Третья задача – систематизация имеющихся источников на основе их критического осмысления.
В XIX в. к проблемам источниковедения общественного призрения одним из первых обратился В. Межов. Он предложил тематические разделы и систематизацию материалов по проблемам общественного призрения, важнейшими среди которых были общие отечественные и зарубежные работы, а также работы, относящиеся к истории, практике, законодательству, отдельным видам социальных патологий и т. д. Однако его систематизация была связана с теми источниками, которые выходили во второй половине XIX столетия, практически в ней не отражены источники более раннего периода.
Систематизация работ по общественному призрению А. Роговцева также использует материалы Императорского Человеколюбивого общества. При этом автор не ограничивается только ими, он включает в различные разделы работы английских, немецких, французских исследователей. Однако в данном исследовании, как и в систематизации В. Межова, присутствуют материалы только второй половины XIX в.
В начале ХХ в., когда практика общественного призрения была расширена, появилась потребность осмысления и систематизации накопленного опыта и публикаций. В этот период изданы «Систематический каталог», указатели журналов, посвященные систематизации материалов по общественной помощи. На рубеже XIX и ХХ вв. дело, начатое В. Межовым, продолжают Т. Ефремов, Н. Лучинский, А. Селиванов и другие.
Однако во второй четверти ХХ в. вопросы источниковедения общественной помощи были практически сведены к проблемам государственного призрения, а предшествующий опыт не только не изучался, но и не рассматривался даже в критическом плане.
Сегодня систематизацией источников и библиографией по вопросам социальной помощи начинают заниматься такие отечественные ученые, как Л. Бадя, Н. Ефимова, В. Степанов. В предпринятых попытках уже намечены те тенденции, которые были характерны для исследователей XIX в. Однако стоящие сегодня задачи более сложны. Предстоит включить в познавательный процесс и критически осмыслить источники, не рассматривавшиеся учеными ранее: летописи, житии, отчеты обществ, архивы, коллекции документов рукописного фонда и т. д.
Одна из следующих задач источниковедения и историографии современного периода социальной работы – критическое осмысление наследия русских ученых, их видения социально-исторического процесса общественной помощи.
Наиболее разработанные подходы к истории социальной помощи в России принадлежат отечественным ученым XIX – рубежа ХХ вв.: А. Стогу, Е. Максимову, М. Соколовскому, В. Бензину и ряду других исследователей. Их особенность заключается в том, что в своих исторических реконструкциях процесса они основаны на работах В. Н. Татищева, С. М. Соловьева, Н. М. Карамзина без учета их видения истории России. Отсюда первоисточником для них явились не летописи и исторические списки, а работы указанных историков. По мнению М. Н. Тихомирова, «История Российская» В. Н. Татищева не является источником, которому можно верить без оглядки11, это же относится и к работам Н. М. Карамзина.
Сложность, с которой столкнулись ученые на рубеже веков, состояла в том, что, с одной стороны, новое знание, тем более историческое, невозможно создавать без учета авторитета, а, с другой стороны, необходимо было осмыслить сам процесс в его исторической перспективе, а не только следуя логике современных тенденций и проблем. Отсюда противоречивость в выборе источников. Для исследования древних этапов общественной помощи использовались труды историков, которые не рассматривали вопросы социальной помощи в качестве самостоятельного объекта исторической науки. В то же время применительно к проблемам XIX в. использовались документы, статистические сведения, архивы.
Это относится и к использованию фондов советского периода, когда объективную информацию о состоянии социального обеспечения невозможно было получить из официальных статистических источников. Для этого необходимо анализировать и тщательно сопоставлять различные источники.
Для исследователей истории общественной помощи противоречие сегодняшнего дня состоит в том, что существует потребность представить процесс помощи в его исторической логике и своеобразии, но в то же время каждый этап выделенного процесса требует специализации, своего источниковедения, разработанной системы библиографии.
Таким образом, проблемы источниковедения социальной работы в России, вопросы ее истории и периодизации составляют целый исследовательский комплекс, решение которого возможно только в его целостности. Решение данной системной проблемы предполагает видение достаточно больших горизонтов проблемного поля социальной работы как парадигмы научного знания.
История развития социальной работы в России.
Основными факторами образования новой
для России отрасли знания послужили
указы Госкомтруда СССР (1991 года) о
введении новой профессиональной
квалификации – социальный работник и
введении той же специальности в учебные
заведения по различным формам обучения.
В создавшихся условиях научная мысль
вплотную занялась вопросами организации
инфраструктуры помощи, с практическими
методами поддержки нуждающихся,
образовательными проблемами подготовки
специалистов, определением научного
статуса новой дисциплины.
С 1992 года начинаются исследования по
истории и теории социальной работы.
Причем, в современных трудах рассматривается
или отечественный, или зарубежный опыт
работы. Исследований по истории социальной
работы в России настолько мало, что
может возникнуть впечатление, что она
появилась только в начале 90-х гг. ХХ в.
Поэтому выбор темы «История развития
социальной работы в России» актуален
и не случаен.
Предметом нашего исследования стали
источники, указы, инструкции, положения,
циркуляры, а также труды историков,
ученых Карамзина, М. Забылина, П.
Нищеретного, П. Я. Циткилова, В. А. Сущенко,
Л. В. Бадя, М. В. Фирсова, В. И. Курбатова,
Л. И. Деминой, В. Н. Егошиной, Е. И. Холостовой,
Л. Г. Гусляковой, В. И. Жукова, А. И. Лященко,
В. Е. Давидович, А. Спицкой.
Анализируя источники и взгляды, мы
старались:
1) показать, что благотворительность –
явление закономерное, была присуща
России, начиная с архаического периода
родо-племенных отношений;
2) собрать, рассмотреть и систематизировать
все источники для видения
социально-исторического процесса
общественной помощи и общественного
призрения;
3) рассмотреть исторические модели
социальной помощи каждого периода;
4) выявить, что сделано
предшествующими поколениями в этой
области;
5) критически осмыслить имеющийся
материал с учетом тенденций и перспектив
для применения положительного опыта и
работы в современных условиях.
На самом же деле история социальной
работы в России насчитывает более тысячи
лет. В учебнике «Основы социальной
работы» Павленок П. Д. пишет, что «Началом
ее следует считать договор 911 г. князя
Игоря с греками, который содержал в себе
моменты, называемые ныне социальной
работой».1
Согласно «Повести временных лет»,
составленной в XII в. киевским монахом
Нестором, которая послужила источником
для работ Карамзина по «Истории
государства Российского», отмечается
не только жестокость славян в бою, но и
их гостеприимство, а также то, что они
«славились почтением к родителям и
всегда пеклись об их благосостоянии».2
У М. Забылина есть интересный материал
об обычаях, обрядах русского народа, в
котором говорилось, что «в специально
построенных гонтинах, или храмах, менее
священных, имелись одни лавки и столы
для народных сходбищ, на которых угощали
все население».3
Подлинным толчком для развития
благотворительности в России стало
принятие христианства в 988 году. «Отменная
набожность, усердие строению храмов и
милосердие к нищим снискали любовь
общую» к Ивану Калите, Владимиру
Волынскому, Георгию Долгорукому, Андрею
Боголюбскому, Святославу Киевскому,
Олегу, Владимиру Мономаху, Святополку,
Изяславу, Ярославу Мудрому. В летописи
отмечается, что «в 1209 году первой женой
Всеволода была Мария, родом ясыня,
славная благочестием и мудростью. Она
призывала сыновей жить в любви, что
междоусобица губит князей и отечество,
возвеличенное трудами предков, советовала
быть трезвыми, приветливыми и в особенности
уважать старцев».4 Летописец хвалит ее
за многие благотворительные деяния.
Многие благородные дела князей Нестор
отмечает действием христианского
учения: гуманность, вера в силу добра,
убежденность в важности человеколюбия,
помощь ближнему – явились непреложными
истинами.
После принятия христианства средоточием
социальной помощи стали церкви и
монастыри. «Под их руководством люди
учились понимать и исполнять заповедь
о любви к ближнему», — считает автор
работы «Исторические корни и традиции
развития благотворительности в России»
П. И. Нищеретний. «Любить ближнего – это
прежде всего накормить голодного,
напоить жаждущего».5
Идея государственного призрения,
сформулированная Стоглавым собором в
правление Ивана Грозного не была
реализована никем из его преемников,
хотя благотворительностью занимались
царь Федор, последний из династии
Рюриковичей, Борис Годунов, Василий
Шуйский, Михаил Федорович, Алексей
Михайлович.6
Конец эпохи нищелюбия пришелся на время
царствования Петра I. По его инициативе
были открыты госпитали, смирительные
дома, содержание и обучение сирот и
солдат в монастырях. Система государственного
призрения в России сложилась при
Екатерине II, издавшей в 1763 году указ об
открытии в Москве, а затем в Петербурге
воспитательного дома. А в 1773 году во
всех губерниях России были созданы
приказы общественного призрения,
занимающиеся вопросами помощи
нуждающимся.7
Период с 1861 по 1917 гг. принято считать
временем расцвета российского
предпринимательства. Так оно и было на
самом деле. «Впервые за всю предыдущую
и последующую историю России самостоятельные
люди получили возможность свободного
развития, реализации всех заложенных
в них деловых качеств»8, — считает В. А.
Сущенко в «Истории российского
предпринимательства». Причиной такого
всплеска благотворительности автор
исследования видит в мощном развитии
экономики страны. «Стык 2-х столетий
ознаменовался настоящей транспортной
революцией, совершенствованием путей
сообщения; созданием системы коммерческих
банков, ростом крупной индустрии, в
первую очередь машиностроения с широким
привлечением частного русского и
иностранного капиталов. В торговле
произошел переход от ярмарок, как
основного места сделок, к биржам. На
первое место среди сфер приложения
частного капитала окончательно выступают
крупная промышленность и финансовые
операции».9
Такого же взгляда придерживается и Л.
В. Бадя в историческом очерке
«Благотворительность и меценатство в
России». Он считает, что размаху
благотворительной деятельности
способствовали не только «накопление
капитала, что создавало материальную
основу для ускоренного развития
общественной и частной благотворительности,
но и поощрительное законодательство».10
Однако, на наш взгляд, и В. А. Сущенко, и
Л. В. Бадя очень сильно идеализируют
деятельность отечественных предпринимателей.
«Являясь в большинстве своем капиталистами
и по рождению, и по роду занятий, они
сумели подняться над узкоклассовыми
интересами определенных социальных
групп и сознательно действовали для
достижения общенациональных целей».11
К этой группе авторов присоединяется
М. В. Фирсов в серии исследований по
истории социальной работы в России.
«Капитализм не только породил новые
формы угнетения, обострил многие
противоречия социальной действительности,
но и создал новые социальные условия,
определил новые задачи в духовной и
культурной жизни».12
Почему же социальная работа возникла
в России не в начале ХХ столетия, как в
странах Запада, а в его конце?
Ответ на этот вопрос дает В. И. Курбатов,
автор учебника «Социальная работа». Он
предлагает вспомнить, что начало ХХ в.
в России «было отмечено повышенным
интересом к политике, который отодвинул
на второй план проблемы экономики и
социальной сферы. Две войны (русско-японская
и первая мировая), а также три революции
принесли свои результаты – построение
социалистического общества».13
Исходя из этого, В. И. Курбатов выделяет
две причины, по которым социальная
работа не возникла в России в начале
XIX в. «Первая связана с «огосударствлением
общественной жизни после октября 1917 г.
Советское государство установило свой
контроль над экономикой, политикой и
социальной сферой. Фактически оно
взвалило на себя заботу обо всех
гражданах, хотя у него не было ни средств,
ни умений на ее осуществление».14 Деньги
из бюджета тратились на оборону, на
содержание бюрократического аппарата,
а не на подготовку специалистов такого
профиля.
«Вторая причина — «благотворительность
всегда была объектом отрицательного
отношения со стороны марксизма»,
«является завуалированной формой
эксплуатации трудящихся, поскольку
буржуазия, занимаясь ею, возвращает
«эксплуатируемым сотую часть того, что
им следует по праву».15
В отличие от стран Запада, которые в
начале ХХ в. развивали у себя профессию
социального работника, Советская Россия
в решении помощи нуждающимся пошла по
бюрократическому пути. Она отдала эту
проблему на откуп государственным
чиновникам, которые не проявляли особого
интереса к непосредственной работе с
нуждающимися.
Грубой ошибкой рабоче-крестьянского
государства, — считает М. В. Фирсов, —
была ликвидация частной, общественной
и церковной благотворительности.16 Все
это, в «конечном счете привело к тому,
что в нашей стране, — по мнению группы
авторов Л. В. Бадя, Л. И. Деминой, В. Н.
Егошиной, — в начале 90-х годов социальная
деятельность начала свое становление
и развитие в современном значении этого
понятия».17
Социентальные подходы в истории и теории
социальной работы представлены в
исследованиях Е. Холостовой и И. Зайнышева,
которые считают, что «генезис социальной
работы связан с социальными процессами,
которые являются предметной областью
социальной работы».18
Деятельностный подход в истории и
определении сущности социальной работы
представлен в работе Л. Гусляковой.
Социальная работа определяется как
разновидность социальной деятельности,
как система социальной защиты, как
деятельность государственных организаций
и отдельных лиц по оказанию помощи, как
деятельность по восстановлению и
сохранению психоментальных и социентальных
связей индивида со средой».19
Проблемы, связанные с раскрытием понятий
«социальная справедливость», с
организацией управления социальной
работой в России рассматриваются через
исторический экскурс в работах В. И.
Жукова, В. Е. Давидович, А. И. Лященко.
Свое отражение понятие «социальная
работа» находит и в официальных
государственных документах. Так, в
Концепции развития социального
обслуживания населения в Российской
Федерации дается следующее определение
социальной работы: «…профессиональная
деятельность, осуществляемая
профессионально подготовленными
специалистами и их добровольными
помощниками, направленная на оказание
индивидуальной помощи человеку, семье
или группе лиц, попавших в трудную для
них жизненную ситуацию, через
информирование, диагностику,
консультирование, прямую натуральную
и финансовую помощь, уход и обслуживание
больных и одиноких, педагогическую и
психологическую поддержку, ориентирующую
нуждающихся в помощи на собственную
активность по разрешению трудных задач,
помогающих им в этом».
Основываясь на упомянутых работах
исследователей и ученых, мы с уверенностью
можем сказать, что благотворительность
и социальная работа существовали в
России с архаических времен. Но в
историографии социальной работы еще
много белых пятен по истории краев,
областей, республик, страны. Предстоит
изучить большой пласт источников,
восполнить недостающие знания по истории
социальной работы в России.
Соседние файлы в папке attachments_27-04-2010_19-04-25
- #
- #
- #
- #
10.02.2015303.62 Кб747.doc
- #
10.02.2015238.08 Кб2349.doc
- #
- #
- #
- #