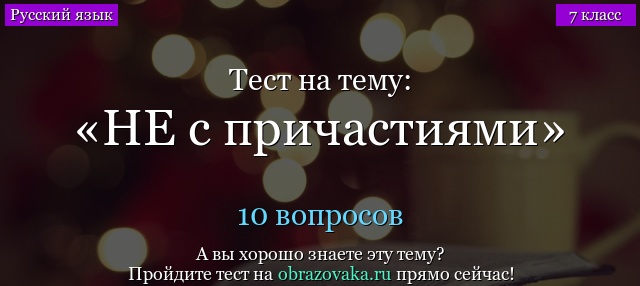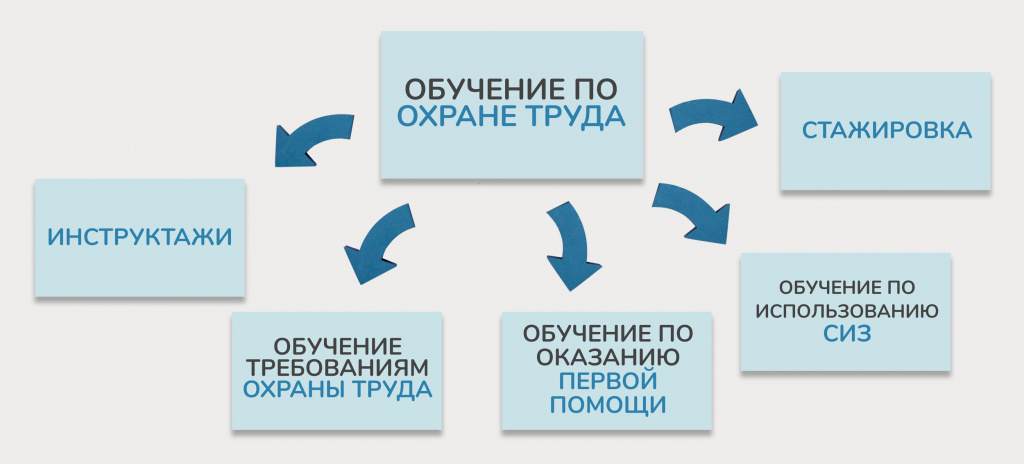Тренинг –солянка (ЕГЭ 2022)
Суязова И.А.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Каменская СОШ № 1 с УИОП»
Воронежской области
Вариант 1
1. Назовите выделенные средства связи между первым и вторым предложениями.
(1) Все Рижское взморье в снегу. (2) Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль. (3)Слетает он от ветра и от того, что по соснам прыгают белки. (4) Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.
2. Установите соответствие между словом и принадлежащей ему частью речи: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
СЛОВО |
ЧАСТЬ РЕЧИ |
|
А) вот |
1)ограничительная частица |
|
Б)или |
2)производный предлог |
|
В) только |
3)разделительный союз |
|
Г) в связи с |
4) указательная частица |
|
Д) её (глаза) |
5)притяжательное местоимение |
3. Выберите из предложенного перечня средств связи то, которое связывает первое и второе предложения.
(1)В далеком-далеком королевстве жила прекрасная принцесса. (2)Волосы ее были золотыми, как солнце. (3)А лицо белым, как парное молоко. (4)Девушка была красивее первого весеннего цветка.
|
1) производный предлог |
3) возвратное местоимение |
5) вводное слово |
|
2) притяжательное местоимение |
4)личное местоимение |
6) уточняющая частица |
4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) и..тратил, в..плывать, ра..пилил 3) раз..грал, сверх..дея, пред..юньский
2) пр..странно, пр..вык, пр..открыл 4) об..ем, от..ехать, двух..ядерный 5) н..грузить, раз..брал, п..казать
5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать 4)чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний
2)сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный 5)вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный
3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера
6. В тексте «Дождь шел третий день. Серый, мелкий и вредный. Непредсказуемый, как низкое седое небо. Нескончаемый. Бесконечный. Он неприкаянно стучался в окна и тихо шуршал по крыше. Угрюмый и беспечный. Раздражающий. Надоевший.» представлен такой тип речи, как….
7. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов
1) услужл..вый, придирч..вый 3) замш..вый, памятл..вый
2) выдёрг..вать, погор..вать 4) парч..вый, зайч..нок 5) издавн.., справ..
8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) больш..нство, алюмини..вый 3) миндал..вый, овлад..вать
2) клетч..тый, (начать) снов.. 4) попроб..вать, нож..вка 5) француз..кий, матрос..кий
9. Эпитетом в данном предложении «Её голос излучал ангельский свет» является слово…
10. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) (травы) колыш..тся, противореч..щий 3) жал..щие (пчёлы), рассе..нный (человек)
2) выгляд..шь, обид..вшийся 4) (кот) мурлыч..т, приемл..мый 5) леч..щий (врач), (родители) тревож..тся
11. Среди предложений 1-5 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью частицы и личного местоимения.
(1)Через минуту наша бричка тоже тронулась в путь. (2)Точно она ехала назад, а не дальше, мы видели то же самое, что и до полудня. (3)Холмы так же тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. (4)И все то же небо и грачи, уставшие от зноя. (5)Воздух тоже изнывал от жары и тишины, отчего покорная природа цепенела в молчании.
12. Установите соответствие между словом и принадлежащей ему частью речи: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
СЛОВО |
ЧАСТЬ РЕЧИ |
|
А) именно |
1) указательное наречие |
|
Б)хотя |
2) усилительная частица |
|
В)даже |
3)подчинительный союз |
|
Г)здесь |
4) притяжательное местоимение |
|
Д)свой |
5) личное местоимение |
|
6)непроизводный предлог |
|
|
7) производный предлог |
|
|
|
|
|
9)противительный союз |
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Было время, когда человек был (не)хозяином природы, а ее послушным рабом.
Нужная книга (не)найдена.
Речка была (не)широкой и мелкой.
Ему (не)верили.
Вводное слово грамматически (не)связано с другими словами в предложении.
14. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Не хотелось сейчас думать о (не)выполненном вчера обещании.
Ключи до сих пор (не)найдены.
Птиц гонит на юг (не)наступивший холод, а отсутствие корма.
Солнце, (не)скрытое облаками, освещает мрачную тучу.
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и тишина.
15. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Вовсе (не)старинная, а очень современная шляпа! Мы достигли цели, но наш путь (не)закончен.
Молодые деревья засыхали на корню, (не)дотянувшись до света. Стояла пронзительная, (не)тронутая тишина.
Ворота были (не)заперты, а дверь в дом распахнута настежь.
16. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его мозг.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную роль в регуляции уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует работу надпочечников.
С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из мрачного мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что апофеозом русской славы является картина «Богатыри», в которой В.М. Васнецов выразил своё романтическое и в ТО(ЖЕ) время глубоко гражданское понимание России.
Физические свойства межзвёздного газа существенно зависят (ОТ)ТОГО, находится ли он в сравнительной близости от горячих звёзд или, (НА)ОБОРОТ, достаточно удалён от них.
17. Слово «именно» является … частицей.
18. Установите соответствие между словом и принадлежащей ему частью речи: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
|
СЛОВО |
ЧАСТЬ РЕЧИ |
|
А) чтобы |
1) указательное наречие |
|
Б) там |
2) усилительная частица |
|
В) в (школе) |
3)подчинительный союз |
|
Г) однако |
4) притяжательное местоимение |
|
Д) его (портфель) |
5) личное местоимение |
|
6)непроизводный предлог |
|
|
7) производный предлог |
|
|
|
|
|
9)противительный союз |
20. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
Рассвет, раскраше(1)ый самыми яркими красками палитры небесного художника соверше(2)о поразил Машу, отчего пальцы ее невольно сжались на краях шерстя(3)ой шали.
21. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
На багря(1)ом небе разливались краски, отражавшиеся в слюдя(2)ых окнах избушки. Посла(3)ика не было.
22. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Милые берёзовые (1) чащи!
Ты (2) земля!
И вы (3) равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть своей тоски. (С.А. Есенин)
23. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Подруга (1) дней моих суровых (2)
Голубка дряхлая моя!
Одна(3) в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня. (А.С. Пушкин)
24. Сопоставьте цель стиля с его названием.
|
Цель употребления |
Название стиля |
|
А) Цель — кратко и чётко сообщить официальную информацию, помочь организовать деловое общение, дать точные указания, рекомендации. |
1)научный стиль |
|
Б) Цель — воздействовать на воображение и чувства читателя, а также информировать его о чём-нибудь. |
2)публицистический стиль |
|
В) Цель текста — воздействовать на эмоции читателя, привлечь внимание к определённой проблеме или явлению. |
3)официально-деловой стиль |
|
Г) Цель текста — передать информационное сообщение, обменяться мыслями и чувствами, решить бытовые вопросы. |
4)художественный стиль |
|
Д) Цель — сообщить точные сведения, проанализировать их, объяснить причинно-следственные связи, обобщить результаты исследований, доказательно изложив научный материал, описав закономерности явлений. |
5)разговорный стиль |
25. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Спасибо (1) папа (2) для меня это (3) действительно (4) важно. Я (5) признаться (6) очень волнуюсь.
26. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Как бились жилки голубые(1)
На шее под моей рукой!
В то утро(2) может быть(3) впервые(4)
Ты показалась мне женой.
И все же не тогда(5) я знаю(6)
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая(7)
Обледенелая скала…
27.Среди предложений 2-4 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью синтаксического параллелизма.
(1)Помню раннее, свежее, тихое утро… (2)Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. (3)Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. (4)Воздух так чист, точно его совсем нет.
28. Среди предложений 1-4 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью парцелляции.
(1)Люблю, когда лес шумит. (2)Особенно летом. (3)Иду и слушаю, о чем деревья переговариваются. (4)Ведь это целый лесной разговор. (5)Его понимать надо. (6)Иной раз деревья тихонько шумят, будто шепчутся между собой. (7)Это значит — погожий день устоялся. (8)А то в другой раз как загудит, заволнуется — ну, жди ненастья, грозы! (9)Им-то сверху видней, что на небе делается, еще издали тучки увидят — начнут друг другу весть подавать. (10)А самые старые заохают да застонут, будто страшно им, что не выдержат, сломает их ветер. (11)Зато как пройдет гроза, выглянет солнышко, тут уж такой по лесу радостный разговор пойдет, прямо заслушиваешься…
29. Среди предложений 9-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью противительного союза.
(1)Люблю, когда лес шумит. (2)Особенно летом. (3)Иду и слушаю, о чем деревья переговариваются. (4)Ведь это целый лесной разговор. (5)Его понимать надо. (6)Иной раз деревья тихонько шумят, будто шепчутся между собой. (7)Это значит — погожий день устоялся. (8)А то в другой раз как загудит, заволнуется — ну, жди ненастья, грозы! (9)Им-то сверху видней, что на небе делается, еще издали тучки увидят — начнут друг другу весть подавать. (10)А самые старые заохают да застонут, будто страшно им, что не выдержат, сломает их ветер. (11)Зато как пройдет гроза, выглянет солнышко, тут уж такой по лесу радостный разговор пойдет, прямо заслушиваешься…
30. Среди предложений 1-5 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью указательного местоимения и формы слова.
(1)В одной стране за стеклянной горой, за шелковым лугом стоял нехоженый, невиданный густой лес. (2)В том лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. (3)У этой медведицы было два сына. (4)Когда медвежата подросли, то решили пойти по свету искать счастья. (5)Но счастья на чужой земле, вдали от матери братья не нашли и вернулись на родину. (6)Там и прожили они счастливо до конца своих дней.
Ответы
|
Вариант 1 |
|
|
1 |
Личное местоимение |
|
2 |
43125 |
|
3 |
2 |
|
4 |
14 |
|
5 |
124 |
|
6 |
описание |
|
7 |
145 |
|
8 |
2345 |
|
9 |
ангельский |
|
10 |
345 |
|
11 |
2 |
|
12 |
83214 |
|
13 |
неширокой |
|
14 |
незабываемые |
|
15 |
нетронутая |
|
16 |
впоследствиитакже |
|
17 |
уточняющей |
|
18 |
31694 |
|
19 |
23 |
|
20 |
12 |
|
21 |
3 |
|
22 |
23 |
|
23 |
2 |
|
24 |
34251 |
|
25 |
1256 |
|
26 |
23567 |
|
27 |
23 |
|
28 |
23 |
|
29 |
1011 |
|
30 |
23 |
Вариант 2
-
В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
окружИт перелилА придАное сирОты тортЫ
-
В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.
экспЕрт прожОрлива щЕлкать вклЮчит углубИть
-
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Местность вокруг моего родного села была БОЛОТИСТОЙ.
Старик немного загрустил, вспомнив себя в БЫЛЫЕ годы.
Из темноты, густой как смола, послышался тяжелый ВДОХ.
ДВОИЧНАЯ система счисления основана на алфавите, состоящем из цифр 0 и 1.
Данное ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ соглашение направлено на укрепление отношений между странами, его подписавшими.
-
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Никита продолжал УКЛОНЯТЬСЯ от разговора, хоть и понимал, что это — не выход.
ОТЛИЧИЕ между фотографией и картиной, как мне кажется, просто огромно!
В тот ПАМЯТНЫЙ день произошло невероятное множество событий, но я помню его до самой последней секунды.
Нельзя отрицать, что у каждого свой ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ вкус.
Сегодня же должен выступить ПОЧЁТНЫЙ академик РАН, вы что, не знали?!
-
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Коля мог назвать свой класс ДРУЖНЫМ лишь с большой натяжкой.
Человек ПРОСВЕЩЁННЫЙ вряд ли бы сказал так.
Господин N., человек явно выраженных ХИЩНИЧЕСКИХ наклонностей, вызывал во мне лишь неприязнь, не более того…
РАЗДРАЖЕНИЕ – не самое приятное свойство личности.
Лишь на основании ФАКТИЧЕСКИХ данных можно делать какие-либо значимые заявления.
-
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Выйти на ИСХОДНЫЙ рубеж мы должны были к следующему вечеру.
Отношения, установившиеся между ними, вряд ли можно было назвать ДРУЖЕСКИМИ.
Анатолий Мариенгоф – один из ЗАЧИНАТЕЛЕЙ имажинизма.
Он в семье человек ЖЕСТКИЙ.
Все обладает памятью, даже КАМЕНИСТЫЙ мост, кажущийся абсолютно мертвым.
-
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
пара туфель несколько полотенец немецкие штабы
опытные доктора около пятиста километров
-
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
весёлый конферансье всё поняв
вишни спелее абрикосов без туфлей более трехсот книг
9. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
двое суток девяностам книгам четверо ребят толковые инженеры много джинсов
-
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
несколько яблок около двух тысяч человек
равна четыреста двадцати двум сантиметрам их работа более легко
-
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками:
к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
|
ОШИБКИ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |
1) И.С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испытанию любовью» – и этим раскрыл истинную сущность своего героя. |
|
Б) ошибка в построении сложного предложения |
2) Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой после расставания с ним яркие впечатления о море, горах, южных травах и цветах. |
|
В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением |
3) В основе произведения «Повести о настоящем человеке» лежат реальные события, произошедшие с Алексеем Маресьевым. |
|
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |
4) С.В. Михалков утверждал, что мир купеческого Замоскворечья можно увидеть на сцене Малого театра благодаря великолепной игре актёров. |
|
Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм |
5) В 1885 году В.Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто семь этюдов, привезённым из поездки на Восток. |
|
6) Теория красноречия для всех родов поэтических сочинений написана А.И. Галичем, преподававшим русскую и латинскую словесность в Царскосельском лицее. |
|
|
7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть ощущение звонкой красочности городской улицы. |
|
|
|
|
|
9) Читая классическую литературу, замечаешь, что насколько по-разному «град Петров» изображён в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М.Достоевского. |
12. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
|
А) неправильное построение предложения с косвенной речью |
1) Темпы строительства и объём работ к 1949 году значительно вырос. |
|
Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом |
2) По возвращению из командировки сразу позвоните мне: мы будем ждать от вас звонка. |
|
В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |
3) Большинство текстов Станислава Лема ещё не переведено на русский язык. |
|
Г) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением |
4) Только благодаря хорошей реакции я смог преодолеть препятствие. |
|
Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |
5) Главный герой романа Достоевского «Преступления и наказания» — Родион Раскольников, бывший студент, живущий в бедности. |
|
6) Протест героини, отстаивающую своё право на счастье и любовь, раскрыт в постановке молодёжного театра по-новому. |
|
|
7) Барселона — это причудливый мир, созданный воображением и талантом одного человека, архитектора Гауди. |
|
|
|
|
|
9) В 2014 году мы вспоминали событие столетней давности, перевернувшее мир: начало Первой мировой войны. |
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Он долго (не) понимал, что делать дальше.
Райский считал себя отнюдь (не) отсталым человеком.
В мечтах он открывал ещё (не) исследованные земли.
Старая усадьба стояла на (не) высоком холме.
Некоторые упражнения (не) выполнены.
14. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Режиссёр (не) перестаёт удивлять своими работами.
(Не) промеренные ещё глубины океана хранят в себе тайны.
Отчёты (не) подписаны.
Последний параграф остался (не) выученным.
Липы в старом саду (не) вырублены, их удалось сохранить.
15. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(В)ДАЛИ морской так и не показался катер, хотя его продолжали ждать, (НЕ)СМОТРЯ на непогоду.
Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО) товарищ мой был бодр и весел.
(НА) РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве Репина занимает историческая живопись, к которой он периодически возвращается (В) ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни.
(НЕ) СМОТРЯ на усталость, мы отправились (НА) ВСТРЕЧУ со школьными друзьями.
Мы были (НА) ВИДУ у неприятеля, и (ПО) ЭТОМУ каждый неверный шаг мог стоить нам жизни.
16. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Пройдя (В) ДОЛЬ берега, караван остановился, и погонщики принялись (ПО) ОЧЕРЕДИ рассёдлывать оленей.
Осипу хотелось думать, что лёгкие облака плывут в ТАКИЕ(ЖЕ) счастливые земли, как и его любимый край, в который он вернулся (НА)КОНЕЦ после долгих скитаний.
Некоторое время Меркулов шёл (В) СЛЕД за всеми, (ЗА) ТЕМ остановился.
(В) ТЕЧЕНИЕ нескольких лет писатель делал всё, ЧТО(БЫ) опубликовать роман на родине.
(НЕ) СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж.
17. Укажите все цифры (цифру), на месте которых (-ой) пишется Н.
На стра(1)ом и грозном фоне закатного неба зубчатая стена хвойного леса казалась отчётливо нарисова(2)ой, а кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки берёз словно были очерче(3)ы на небе лёгкими штрихами.
18. Укажите все цифры (цифру), на месте которых (-ой) пишется Н.
Территория поселка тесна, запуще(1)а, неблагоустрое(2)а людьми, а дорога к нему вся разбита и изъезже(3)а машинами.
19. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
А мы с тобой (1)брат (2) из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной (3)покончили мы счеты,
бери шинель, пошли домой.
К золе и пеплу наших улиц (4)
опять, опять (5) товарищ мой (6)
скворцы (7) пропавшие вернулись,
бери шинель, пошли домой.
20. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Ах (1) война (2) что ж ты сделала (3) подлая:
стали тихими (4) наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели (5) они до поры,
на пороге едва помаячили,
и ушли, за солдатом солдат…
До свидания (6) мальчики! Мальчики (7)
постарайтесь вернуться назад.
21. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Испуганный (1) шорохом (2) конь шарахнулся в сторону (3) звеня (4) колечками уздечки (5) тревожно всхрапывая.
22. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
А он меж тем (1) объятый пылом (2) и жаром битвы (3) жадный заслужить навязанный на руку подарок (4) понёсся впереди всех (5) размахивая саблей.
23. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Но вот (1) выбрав момент (2) сержант рывком вскочил на ноги (3) и (4) что-то прокричав (5) головой вперёд бросился через рельсы (6) сразу исчезнув на той стороне однопутки.
24. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и спешились (4) то увидели (5) что мост снесло наводнением.
25. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Впереди показалась широкая река (1) и (2) когда всадники подъехали (3) и спешились (4) увидели (5) что мост снесло наводнением.
26. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Альпинисты поняли (1) что (2) если вьюга не утихнет (3) им придётся возвращаться в базовый лагерь (4) так как сильные порывы ветра мешали продвигаться по отвесной скале.
27. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.
Альпинисты поняли (1) что (2) если вьюга не утихнет (3) то им придётся возвращаться в базовый лагерь (4) так как сильные порывы ветра мешали продвигаться по отвесной скале.
28. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Солнышко село и зорька погасла.
2) Для Алевтины Васильевны хотя и привычна но тяжела была власть Ерофея Кузьмича.
3) Отрывистый и ломаный звук метался и прыгал и бежал куда-то в сторону от других.
4) И день и ночь не утихала работа в поле.
5) Листья в поле пожелтели и кружатся и летят.
29. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Вода быстро поднималась и заливала луга и огороды жителей деревни.
2) Зарево распространилось не только над центром города но и далеко вокруг.
3) Ни свет ни заря отправилась Матрена в город.
4) Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно но вдруг остановился
5) Здесь краски не ярки и звуки не резки.
30. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) На суше на море молодые и сильные руки творят чудеса.
2) Не то сон не то наваждение не то видение чудное показалось старому монаху.
3) Задолго до рассвета Ильинична затопила печь выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей.
4) И день и ночь мой Ленинград стоял и жил сражался и мечтал.
5) Над Невой покачивался слюдяной солнечный блеск и пролетали легкие ветры со взморья.
31. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Это криминальное преступление потрясло весь город.
32. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
На празднике ветеранам вручили памятные сувениры и ценные подарки.
33. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Руководители предприятия по-прежнему надеются на руководящие указания министерства.
34. Распределите предложения в три группы: группа 1 — двоеточие ставится при обобщающем слове; группа 2 – в бессоюзном предложении; группа 3 – при прямой речи (лишних цифр нет)
(1) Витя прекрасно говорит по-английски: он каждый день занимается с репетитором.
(2) В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
(3) Будущее принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда.
(4) На улице шел сильный дождь: крупные капли стучали в окна.
(5) Доктор пожимает плечами стараясь быть спокойным и строгим: «При чём тут сиамские близнецы?»
(6) Он произнес: «Пора собираться в дорогу».
(7) На дачу приехали все члены семьи: мать, отец и два сына.
(8) Он помнил: это правило нельзя нарушать.
(9) Ничто: ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши — не выражает так ясно и верно нас самих и наше отношение к миру как наши чувствования…
35. Распредели предложения с тире в три группы: (лишних цифр нет)
группа 1 – тире при приложении;
группа 2 – тире при несогласованном определении, выраженном н.ф.гл.
группа 3 – тире между подлежащим и сказуемым.
(1) Двадцать лет – хорошая вещь.
(2) Посреди их время от времени встречались кирпичные строения — грубые огромные коробки.
(3) На улице мальчишка — торговец газет — что-то выкрикивал.
(4) Журнал «Новый мир» – один из лучших литературно-художественных журналов России.
(5) Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.
(6) Своей беззащитностью она вызывала в нём рыцарское чувство – заслонить, оградить, защитить.
(7) Величайший наш поэт, основатель российского литературного языка, наикрупнейший представитель государственной литературы — Пушкин по праву занимает одно из первых мест в истории культурного развития РФ.
(8) Твои радость и горе — это радость и горе для меня.
(9) С батареи получен приказ — не отнимать трубку от уха и каждые пять минут проверять линию.
|
Вариант 6 |
|
|
1 |
торты |
|
2 |
включит |
|
3 |
вздох |
|
4 |
различие |
|
5 |
раздражительность |
|
6 |
каменный |
|
7 |
пятисот |
|
8 |
туфель |
|
9 |
девяноста |
|
10 |
четырёмстам |
|
11 |
59321 |
|
12 |
82651 |
|
13 |
невысоком |
|
14 |
невыученным |
|
15 |
нездоровилось зато |
|
16 |
вслед затем |
|
17 |
3 |
|
18 |
123 |
|
19 |
1256 |
|
20 |
12367 |
|
21 |
235 |
|
22 |
1345 |
|
23 |
12456 |
|
24 |
145 |
|
25 |
1245 |
|
26 |
1234 |
|
27 |
134 |
|
28 |
12 |
|
29 |
24 |
|
30 |
34 |
|
31 |
криминальное |
|
32 |
памятные |
|
33 |
руководящие |
|
34 |
1 гр. – 2379 2 гр.- 148 3 гр. — 56 |
|
35 |
1 гр. – 237 2 гр.- 69 3 гр. — 1458 |
Вариант 3
1. Из предложенных терминов выберите те (тот), которые (-ый) относятся (-ится) к форме речи
|
1) метафора |
4) диалог |
7) восклицательные предложения |
|
2) вводные слова |
5) лексический повтор |
|
|
3) фразеологизм |
6) анафора |
9) монолог |
2. Из предложенных терминов выберите те (тот), которые (-ый) являются (-ется) тропами
|
1) фразеологизм |
4) градация |
7) перифраз |
|
2) диалог |
5) метафора |
|
|
3) литота |
6) ряды однородных членов предложения |
9) гипербола |
3. Из предложенных терминов выберите те (тот), которые (-ый) являются (-ется) стилистическими приёмами (риторическими фигурами)
|
1) историзм |
4) вводные слова |
7) риторическое восклицание |
|
2) умолчание |
5) лексический повтор |
|
|
3) инверсия |
6) ассонанс |
9) градация |
4. Из предложенных терминов выберите те (тот), которые (-ый) относятся (-ится) к лексическим средствам выразительности
|
1) окказионализмы (авторские слова) |
4) термины |
7) восклицательные предложения |
|
2) лексический повтор |
5) сравнение |
|
|
3) фразеологизм |
6) диалектизмы |
9) разговорная лексика |
5. Перед Вами – название стилистических приёмов. Найдите термины, которые не относятся к данным средствам выразительности. Укажите ошибочные номера.
|
1) диалектизмы |
4) гипербола |
7) градация |
|
2) риторический вопрос |
5) умолчание |
|
|
3) восклицательное предложение |
6) инверсия |
9) оксюморон |
6. Перед Вами – название тропов. Найдите термины, которые не относятся к данным средствам выразительности. Укажите ошибочные номера.
|
1) градация |
4) метонимия |
7) термины |
|
2) умолчание |
5) гипербола |
|
|
3) перифраз |
6) инверсия |
9) окказионализмы |
7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Мы проезжали мимо (не) широкой, но быстрой реки.
Мост через реку в этом году (не) построен.
Портрет ещё (не)окончен, но слава о талантливом художнике быстро облетела город.
Телеграмма, (не) отправленная мною, лежала на столе.
Свежий ветер, еще (не) утихший после шторма, трепал паруса.
8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Лошадь Муромского, (не) бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла.
Кирила Петрович, отроду (не) удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища.
Резкий крик вырвался у меня из ещё (не) окрепшего горла.
Двери дачи были (не) заперты.
Команда разошлась, (не) доумевающая и пораженная.
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Учитель (не) дооценил способности ученика.
Брат (не) выше меня.
Звучали долго (не) стихающие залпы.
Обширна эта необжитая тайга, (не) уменьшающаяся год от года.
(Не) думая ни о чём, кроме победы, мы ринулись в бой.
10. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Невдалеке от станции стояла в полях каменная громада (не) достроенного костёла.
Правая передняя нога лошади (не) подкована.
Мы ходили по коридорам и (не) запертым дворецким комнатам, ища признаков жизни
Огромная, никем (не) исследованная страна простиралась на многие тысячи верст.
В (не) осевшей на землю пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу.
11. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Много документов, относящихся к эпохе великих русских географических открытий, (не) опубликовано…
Мать стояла у печки прямая, строгая и (не) мигающими глазами смотрела перед собой.
Подумать только: письма написаны более пятнадцати лет назад — и забыты, (не) отправлены по назначению.
Но есть на полярной станции компас, один-единственный, который (не) подвержен влиянию бурь.
Жизнь на дрейфующем «Ямале» была заполнена неустанной разнообразной работой, (не) оставлявшей времени для уныния или паники.
12. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
|
Грамматические ошибки |
Предложения |
|
А) ошибка в построении с однородными членами |
1) Целые поколения землепашцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали леса. |
|
Б) неправильное построение предложения с дееприч-ым оборотом |
2) Знаменитая песня «День Победы» была написана В. Харитоновым и Д.Тухмановым к тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне. |
|
В) ошибка в построении сложноподчинённого предложения |
3) Великий биохимик Гертруда Элион в соавторстве с различными учёными обнаружили уникальный исследовательский подход, ориентирующийся на различия в здоровых и патогенных клетках. |
|
Г) нарушение в построении предлож-я с несогласованным приложением |
4) Показавшаяся за рекой луна всё вокруг осветила красноватым светом: белые развалины монастыря, тихое озеро, берёзы на опушке. |
|
Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |
5) В балете «Спящей красавице» П. И. Чайковского рассказывается история о злых чарах феи, заснувшей принцессе и волшебном поцелуе любви. |
|
6) В тесной от людей комнате, среди никому не нужной мебели он не только выглядит, а также и ведёт себя, как настоящий руководитель. |
|
|
7) Со дня его отъезда в Москву прошло около пяти лет. |
|
|
|
|
|
9) Только кое-где в проулках вспыхивала лучина, которой освещалась хозяйка, которая не успела управиться. |
13. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
|
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |
1) Организм человека, в котором работают сложные биохимические механизмы, требует ежедневного поступления питательных веществ. |
|
Б) ошибка в построении сложного предложения |
2) Через год после выставки картины «Ночи на Днепре» А. И. Куинджи продемонстрировал зрителям ещё одну картину, применив тот же световой эффект. |
|
В) нарушение в построении предлож-я с несогласованным приложением |
3) Нельзя не согласиться с утверждением, что те, кто неутомимо стремится к достижению своей цели, достоин глубокого уважения. |
|
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |
4) Алексей Швабрин становится предателем и перешёл на сторону бунтовщиков. |
|
Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм |
5) Одним из приглашённых, опоздавших на праздник, был Сергей, брат Юли. |
|
6) Он поместил свою заметку в школьной газете «Большая перемена». |
|
|
7) Витя сказал, что в какое время он придёт к нам. |
|
|
|
|
|
9) Кто-то из нас совершил этот проступок. |
14. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
|
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |
1) Юноши готовились к соревнованиям наездников, считавшимся у черкесов большим событием. |
|
Б) ошибка в построении сложного предложения |
2) Газету «Комсомольскую правду» выписывают и читают многие поколения читателей. |
|
В) нарушение в построении предлож-я с несогласованным приложением |
3) В начальной школе мы очень любили читать произведение А.С.Пушкина «Сказка о золотом петушке». |
|
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |
4) Отец рассказывал, что как они и через двадцать лет после окончания института каждый год ездят на встречу выпускников. |
|
Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм |
5) Счастливы те, кто приближаются в своей жизни к идеалу, сложившемуся в юности. |
|
6) Все, кто побывал на спектакле, были в полном восторге от игры актёров. |
|
|
7) В одном из старинных домов, сохранившимся в центре Москвы, бывали великие русские поэты и писатели, композиторы и художники. |
|
|
|
|
|
9) Дети любят своих четвероногих питомцев и позаботились о них. |
15. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Ни ранения ни боль ни смерть не пугали этого мужественного человека.
2) Доктриной называют как научную теорию так и связную концепцию во внешней или внутренней политике.
3) В марте прилетают не только грачи но и первые ранние скворцы.
4) Метель то подталкивала нас в спину то налетала сбоку и разворачивала поперек улицы.
5) Звали вдаль журавлиные стаи и орлиный мне слышался крик.
16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Внезапно закружил листопад и постепенно похолодало.
2) Серый коршун с растопыренными кончиками крыльев пролетел над гребнем горы.
3) Вся мебель в комнате состояла из стола кровати да табурета.
4) В праздник кто-нибудь в доме варил варенье или пек торт или готовил еще что-нибудь вкусное и обязательно угощал соседей.
5)Я сижу один над обрывом глажу добрейшую собаку с невероятно забавными в своей ложной свирепости желтыми мужичьими глазами.
17. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
|
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |
1) Все, кто приближается к площади, ещё издали видит необыкновенной красоты храм, ставший символом города. |
|
Б) ошибка в построении сложного предложения |
2) О великой силе любви Орфея и Эвридики рассказывается в книге «Мифы Древней Эллады», составленной А. И. Немировским. |
|
В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением |
3) Молодёжь собралась в клубе. |
|
Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |
4) Олег старался отцепить санки, а они точно приросли, а седок поворачивался и мотал головой, а Алена только глядела вслед другу. |
|
Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм |
5) Одним из российских обычаев, ценившимся многими старыми москвичами, было устное рассказывание. |
|
6) Книга не только даёт пищу уму, но и пробудит душу. |
|
|
7) Лежащая книга на столе была интересной. |
|
|
|
|
|
9) Лариса заворожённо смотрела на пароход «Ласточка». |
18. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Иногда взгляд Илюши наполнялся выражением безразличия усталости или скуки.
2) Художник был увлечен не только красотой открывшегося перед ним вида но и разнообразием природных форм.
3) Пианист виртуозно исполнял свои и чужие сочинения и с легкостью читал с листа незнакомые произведения.
4) Картины и вазы в комнате отражали утонченность вкуса её хозяина.
5) В зеркальных стеклах качались сосны и плыли грузные серые облака.
19. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Русский дух ощущается в творчестве Пушкина в юморе и иронии в силе чувств и лиризме отступлений в пафосе всей поэмы и в характерах действующих лиц.
2) Иван Иванович всегда дает каждому из детей или по бублику или по кусочку дыни.
3) Сравнительный метод одинаково полезен и необходим как в анатомии отдельного человека так и в социальной науке.
4) Лодка шла вдоль берега и попадала то в полосы прохладного морского воздуха то в струи теплого сыроватого ветерка.
5) Направо белела низменная песчаная коса и темнела груда дальних гор.
20. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений
1) Санин ощущал во всем своем существе если не удовольствие то некоторую легкость счастья.
2) Среди сибирских рек есть и большие и малые и спокойные и буйные.
3) Снаряды рвались справа слева и впереди.
4) По небу голубому проехал грохот грома и снова лес молчит.
5) От него не было ни слуху ни духу.
21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1)Здесь, наверху, всегда дул холодный ветер, стекавший с ледника на равнину. (2)Лес в этом месте отступал от скальной стены дальше, чем всюду. (3)Видно, никакая жизнь не могла долго переносить дыхание пропасти. (4)Ущелье напоминало каменную реку. (5)Казалось, какая-то сила, бушевавшая здесь в стародавние времена, вымела наружу россыпи чугунно-серых скал. (6) Сторона скалы, обращенная к горам, была покрыта слоем желтого налета. (7)Трава тоже не хотела здесь расти.
(8)Беспорядочно нагроможденные валуны несколько отступали от края пропасти, а может, были кем-то нарочно сброшены вниз. (9)Они образовали небольшую площадку.
22. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1)Однажды ранним утром меня разбудили голоса: «Дикий кот у дяди Прохора! В капкан попался».
(2)Через несколько минут я уже был у дяди Прохора: там стояла толпа, наблюдавшая за лежащим на земле крупным камышовым котом. (3)Короткая цепь капкана, прикрепленная к вбитому в землю колу, валила кота на землю. (4)Я сбросил с себя кожаную куртку и, прикрывая ею лицо, приблизился к зверю. (5)Зверь был связан и водворен в клетку, однако вел он себя странно: не пытался освободиться, неподвижно лежал в углу клетки, не прикасаясь к пище, предлагаемой ему, и, казалось, не замечал людей.
(6)Опасаясь за жизнь кота, я впустил в его клетку живую курицу — любимую пищу кота на воле. (7)Вначале курица, испугавшись опасного соседа, металась по клетке, но потом успокоилась: хищник не обращал на нее никакого внимания. (8)Прожив еще два дня, кот умер: по-видимому, он не смог примириться с потерей свободы. (9)Курица, обреченная на съедение, осталась невредимой и была отпущена на волю.
23. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1)В просторных полях плавает над росой синяя паутина, и медленно остывает натруженная земля. (2)В прозрачных глубинах речных омутов ленивеют рыбы, едва шевеля плавниками. (3)Стога, окруженные поздней зеленой травой, давно поблекли и вылиняли от сентябрьских дождей. (4)Зато ослепительны изумрудно-сизые озимые полосы, и безмолвно и ярко пылают на опушке рубиновые всплески рябин.
(5)В лесу необычайно тихо: все замерло, затаив дыхание, и словно ждет какую-то неизбежную кару, а может, прощения и отдыха.
(6)Осень дует на леса, обдавая их мокрым ветром, и тогда глухой недовольный гул валами идет на тысячи верст. (7)Ветры сдувают с лона бессчетных озер заповедную синеву, рябя и осыпая мертвой листвой плесы великих северных рек. (8)Дыхание этих ветров то прохватывает тайгу болотной сединой, то вплетает в нее золотые, оранжевые и серебристо-желтые пряди. (9)Но сосновым и еловым грядам все нипочем, и они все так же надменно молчат либо грозно и страшно гудят, вздымая свои возмущенные гривы, и тогда могучий шум снова катится по бескрайней тайге.
24. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1)Нас с другом Сашей объединяло одно: мы страстно любили деревянную архитектуру. (2)Однажды нам посчастливилось: мы отправились путешествовать по берегам северной реки Мезени. (3)Мы поселились в Кимже, это было старинное село с уникальной деревянной церковью, и местные жители рассказали, что неподалёку находится живописная деревушка Кильце и до неё можно легко добраться по лесной тропе.
(4)Наутро я взял фотоаппарат, Саша собрал сумку, мы вышли из дома. (5)В лесу мы увидели, что тропа часто теряется в густой траве, по её краям растут нетронутые грибы: рыжики, подосиновики, подберёзовики — словом, здесь нечасто ходят люди. (6)Вскоре лес стал редеть, вдалеке над рекой показалась деревня.
(7)На опушке я остановился: в кустах сидел большой рыжий кот и с аппетитом обгладывал ветки. (8)Это поразило меня – я пригляделся: у кота были непомерно длинные уши. (9)Тут я понял: это был не кот, а заяц. (10)Я выхватил фотоаппарат — заяц мгновенно исчез в кустах.
25. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.
(1) Обида – это такой маленький зверёк. (2) С виду он совсем безобидный. (3) Будешь правильно с ним обращаться — вреда он тебе не принесёт. (4) Обида, если не пытаться её одомашнить, прекрасно живёт на воле и никогда никого не трогает. (5) А будешь пытаться завладеть обидой, сделать её своей – всё кончится плачевно…
(6) Зверёк этот очень маленький и юркий – он очень быстро может проникнуть в тело человека. (7) Человек это сразу почувствует: ему станет обидно. (8) «Выпусти меня! Мне здесь темно и страшно! Я хочу наружу!» — зверёк кричит человеку.
(9) Но многие люди, разучившись понимать себя и друг друга, также разучились понимать языки тварей земных: они ни за что не хотят её отпускать. (10) Они носятся с ней, как с писаной торбой, постоянно думают о ней, заботятся… (11) А обиде всё равно не нравится в человеке. (12) Она крутится, ищет выход, но сама она никогда не найдёт пути… (13) Такой вот непутёвый зверёк. (14) Да и человек тоже непутёвый… (15) Сжался весь и ни за что не выпускает свою обиду… (16) А зверёк-то голодный, кушать ему хочется… (17) Вот и начинает он потихоньку есть человека изнутри… (18) И человек, не понимая истинной причины, чувствует это: то там заболит, то здесь… (19) Но не выпускает человек из себя обиду: привык он к ней… (20) Слабеет человек, болеть начинает – зверюга внутри всё толстеет…
(21) И невдомёк человеку, что надо только одно: взять и отпустить обиду! (22) Пусть себе живёт в своё удовольствие! (23) И ей без человека лучше, и человеку без неё легче живётся.
(24) Обида – это такой маленький зверёк… (25) Если вдруг поймаешь ненароком, отпусти её, пусть себе бежит!
Ответы
|
1 |
49 |
|
2 |
3579 |
|
3 |
23579 |
|
4 |
13469 |
|
5 |
1348 |
|
6 |
12679 |
|
7 |
неширокой |
|
8 |
недоумевающая |
|
9 |
недооценил |
|
10 |
недостроенного |
|
11 |
немигающими |
|
12 |
68953 |
|
13 |
57234 |
|
14 |
74259 |
|
15 |
2345 |
|
16 |
135 |
|
17 |
74816 |
|
18 |
12 |
|
19 |
234 |
|
20 |
134 |
|
21 |
156 (п.о.) + 358 (вв.сл.) |
|
22 |
2359 (п.о.) + 45678 (д.о.) + 58 (вв.сл.) |
|
23 |
1469 (с/с) + 25679 (д.о.) |
|
24 |
1289 |
|
25 |
1 24 (подл. и сказ.) + 5 6 20 (б/с) |
Понятно, я от всей души желал, чтобы они поженились, Андрей и Лиза, лучшие мои друзья. И все же иногда немного грустно становилось на душе. До сих пор дружба поровну разделялась между нами троими. Однако на двоих да еще на одного старой дружбы могло уже и не хватить. Сложная арифметика, и довольно грустная.
Но что бы там ни было, я честно трудился для пользы друга. Того и гляди, думал я, на Большую землю вдогонку за перелетными птицами помчатся любовные радиограммы Андрея.
Но до этого не дошло. Андрей не пожелал возвещать о своих чувствах на весь свет, выходить в эфир с любовным объяснением.
— Тут, знаешь, надо осторожно, планомерно, — пояснял он шепотом. — С глазу на глаз.
При этом он многозначительно похлопывал ладонью по своим стихотворениям. По-видимому, все же возлагал на них какие-то надежды.
4. ТРИ ФЛАКОНА САБИРОВА
Но мы не застали Лизу, когда вернулись с мыса Челюскин. Лиза была на практике, на какой-то новостройке.
Это было досадно. Мы, признаться, уже разбаловались — привыкли к тому, что она всегда встречает нас в Москве на аэродроме. И наша комната без нее выглядела неуютной. А чай? Разве так полагалось заваривать праздничный чай в день возвращения зимовщиков из Арктики?
— Безобразие! — бурчал я, следя за тем, как Андрей толстыми кусками нарезает колбасу. (Он совсем не умел нарезать колбасу.) — Нашла, видишь ли, время по новостройкам своим раскатывать. Тут вон какая карусель закручивается с перелетными птицами! Нам ободрение, поддержка нужны. А она…
Я покосился на Андрея и замолчал. Лицо моего друга было печально и замкнуто. Ободрение, поддержка! И вечно я что-нибудь брякну вот так невпопад!
Раздался стук в дверь, негромкий, но настойчивый.
— Разрешите? — вежливо спросили за дверью.
— Да, да, пожалуйста!
Дверь отворилась, и в комнату, прихрамывая, вошел молодой человек небольшого роста, но очень коренастый, в плотно облегавшем морском кителе.
Смуглая кожа, с чуть проступавшим под ней румянцем, была туго натянута на могучих, как бы каменных, скулах. Казалось, они подпирают снизу глаза и делают прищур их еще более узким. Над верхней губой чернели коротенькие, подбритые по-модному усики.
— Не узнаете? — спросил моряк, дружелюбно улыбаясь. — Сабиров. С «Ямала». Второй помощник капитана…
Узнать было, конечно, нелегко. Члены команды «Ямала» в дни эвакуации выглядели на одно лицо: усталые, худые, заросшие многодневной щетиной.
Впрочем, я запомнил Сабирова. Ему повредили ногу при катастрофе, и товарищи вели его под руки. Меня удивило, что он брел по льду согнувшись, придерживая что-то локтем за пазухой.
Сейчас второй помощник был чисто выбрит, имел бодрый, веселый вид.
— Сабиров? — сказал Андрей, припоминая. — Это вы пререкались с пилотом, требовали уложить вас так, чтобы не трясло, а он сказал: «Боится толчков, точно стеклянный»?
— Правильно! Я и был стеклянный.
Посетитель осторожно вытащил из оттопыренных карманов кителя три небольших флакона, до половины наполненных водой.
— Не простая вода, — предупредил он. — Из Восточно-Сибирского моря! — И с некоторой торжественностью поставил флаконы среди вороха писем на стол.
— Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь, — сказал Андрей, приглядываясь к посетителю. — Ведь вы казах, судя по наружности?.. Никогда не видел казаха-моряка.
Сабиров деликатно, бочком, подсел к столу.
Да, он казах, родился в Акмолинске [теперь г.Целиноград]. Дед его, бывший погонщик верблюдов, был очень удивлен, когда ему сказали, что внук решил стать моряком. Казах хочет стать моряком!
«Оглянись, Саит, — требовал он. — Что видишь вокруг? Степь. Десятки дней надо ехать степью, чтобы добраться до ближайшего моря. Наше ли, казахов, дело водить по морям корабли?»
«Но Казахстан — это часть Советского Союза, — почтительно возражал деду Саит. — Ты ведь знаешь, что Советский Союз — морская держава. Казах гражданин великой морской державы. Почему бы казаху не водить корабли?»
В ответ на ворчливые ссылки на историю, на то, что испокон веку не бывало еще казахов-моряков, внук только пожимал широкими плечами: ну что ж, он, Саит, значит, будет первым в истории казахом-моряком, только и всего!
Впрочем, когда упрямец, закончив в Ленинграде мореходное училище, совершил свое первое кругосветное плавание и приехал в гости к деду, старик смягчился.
Усевшись на полу на коврах и маленькими глотками отхлебывая чай из плоских чашек, родичи слушали моряка, с удивлением покачивали головами. Подумать только: он обошел вокруг Земли! Тайфун вертел его в страшной водяной карусели, и туманы стеной смыкались перед ним!
Деду Саит привез поющую раковину, купленную в Коломбо. Весь вечер бывший погонщик верблюдов просидел на почетном месте в своем праздничном халате, держа раковину в руках и поднося попеременно то к одному, то к другому уху. Внутри удивительного подарка был спрятан негромкий мелодичный гул, как бы отголосок далекого прибоя.
Заботливо завернутая в пестрый халат поющая раковина осталась под Акмолинском, а молодой штурман дальнего плавания продолжал плавать под южными широтами.
Наконец судьба моряка бросила Саита из-под тропиков далеко на север, за Полярный круг. Сухогрузное судно «Ямал», на котором казах-моряк шел вторым помощником, поднялось Беринговым проливом и двинулось на запад. Неблагоприятная ледовая обстановка помешала плаванию. Льды потащили «Ямал» на северо-запад, примерно по тому пути, на котором нашел свою гибель корабль Текльтона.
Жизнь на дрейфующем «Ямале» была заполнена неустанной разнообразной работой, не оставлявшей времени для уныния или паники. Больше всего усилий требовала борьба со сжатиями. Вдруг раздавался сигнал: «К авралу!» — и команда выбегала наверх. Из мрака полярной ночи доносился зловещий скрип. Он нарастал, делался резче, пронзительнее. Тишина. И снова скрежет. Все ближе, громче! При свете прожекторов видно, как ледяные валы подползают к судну.
Применялась активная оборона. Это означало, что моряки с аммоналом спускались на лед. Они старались добраться взрывом до воды. Гидравлический удар распространяется на значительной площади, взбаламученная взрывом вода ломает и крошит лед, распирает его снизу.
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Но что бы там ни было, я честно трудился для пользы друга. Того и гляди, думал я, на Большую землю вдогонку за перелетными птицами помчатся любовные радиограммы Андрея.
Но до этого не дошло. Андрей не пожелал возвещать о своих чувствах на весь свет, выходить в эфир с любовным объяснением.
– Тут, знаешь, надо осторожно, планомерно, – пояснял он шепотом. – С глазу на глаз.
При этом он многозначительно похлопывал ладонью по своим стихотворениям. По-видимому, все же возлагал на них какие-то надежды.
4. Три флакона Сабирова
Но мы не застали Лизу, когда вернулись с мыса Челюскин. Лиза была на практике, на какой-то новостройке.
Это было досадно. Мы, признаться, уже разбаловались – привыкли к тому, что она всегда встречает нас в Москве на аэродроме. И наша комната без нее выглядела неуютной. А чай? Разве так полагалось заваривать праздничный чай в день возвращения зимовщиков из Арктики?
– Безобразие! – бурчал я, следя за тем, как Андрей толстыми кусками нарезает колбасу. (Он совсем не умел нарезать колбасу.) – Нашла, видишь ли, время по новостройкам своим раскатывать. Тут вон какая карусель закручивается с перелетными птицами! Нам ободрение, поддержка нужны. А она…
Я покосился на Андрея и замолчал. Лицо моего друга было печально и замкнуто. Ободрение, поддержка! И вечно я что-нибудь брякну вот так невпопад!
Раздался стук в дверь, негромкий, но настойчивый.
– Разрешите? – вежливо спросили за дверью.
– Да, да, пожалуйста!
Дверь отворилась, и в комнату, прихрамывая, вошел молодой человек небольшого роста, но очень коренастый, в плотно облегавшем морском кителе.
Смуглая кожа, с чуть проступавшим под ней румянцем, была туго натянута на могучих, как бы каменных, скулах. Казалось, они подпирают снизу глаза и делают прищур их еще более узким. Над верхней губой чернели коротенькие, подбритые по-модному усики.
– Не узнаете? – спросил моряк, дружелюбно улыбаясь. – Сабиров. С «Ямала». Второй помощник капитана…
Узнать было, конечно, нелегко. Члены команды «Ямала» в дни эвакуации выглядели на одно лицо: усталые, худые, заросшие многодневной щетиной.
Впрочем, я запомнил Сабирова. Ему повредили ногу при катастрофе, и товарищи вели его под руки. Меня удивило, что он брел по льду согнувшись, придерживая что-то локтем за пазухой.
Сейчас второй помощник был чисто выбрит, имел бодрый, веселый вид.
– Сабиров? – сказал Андрей, припоминая. – Это вы пререкались с пилотом, требовали уложить вас так, чтобы не трясло, а он сказал: «Боится толчков, точно стеклянный»?
– Правильно! Я и был стеклянный.
Посетитель осторожно вытащил из оттопыренных карманов кителя три небольших флакона, до половины наполненных водой.
– Не простая вода, – предупредил он. – Из Восточно-Сибирского моря! – И с некоторой торжественностью поставил флаконы среди вороха писем на стол.
– Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь, – сказал Андрей, приглядываясь к посетителю. – Ведь вы казах, судя по наружности?.. Никогда не видел казаха-моряка.
Сабиров деликатно, бочком, подсел к столу.
Да, он казах, родился в Акмолинске.[4]4
Теперь г.Целиноград.
[Закрыть]
Дед его, бывший погонщик верблюдов, был очень удивлен, когда ему сказали, что внук решил стать моряком. Казах хочет стать моряком!
«Оглянись, Саит, – требовал он. – Что видишь вокруг? Степь. Десятки дней надо ехать степью, чтобы добраться до ближайшего моря. Наше ли, казахов, дело водить по морям корабли?»
«Но Казахстан – это часть Советского Союза, – почтительно возражал деду Саит. – Ты ведь знаешь, что Советский Союз – морская держава. Казах – гражданин великой морской державы. Почему бы казаху не водить корабли?»
В ответ на ворчливые ссылки на историю, на то, что испокон веку не бывало еще казахов-моряков, внук только пожимал широкими плечами: ну что ж, он, Саит, значит, будет первым в истории казахом-моряком, только и всего!
Впрочем, когда упрямец, закончив в Ленинграде мореходное училище, совершил свое первое кругосветное плавание и приехал в гости к деду, старик смягчился.
Усевшись на полу на коврах и маленькими глотками отхлебывая чай из плоских чашек, родичи слушали моряка, с удивлением покачивали головами. Подумать только: он обошел вокруг Земли! Тайфун вертел его в страшной водяной карусели, и туманы стеной смыкались перед ним!
Деду Саит привез поющую раковину, купленную в Коломбо. Весь вечер бывший погонщик верблюдов просидел на почетном месте в своем праздничном халате, держа раковину в руках и поднося попеременно то к одному, то к другому уху. Внутри удивительного подарка был спрятан негромкий мелодичный гул, как бы отголосок далекого прибоя.
Заботливо завернутая в пестрый халат поющая раковина осталась под Акмолинском, а молодой штурман дальнего плавания продолжал плавать под южными широтами.
Наконец судьба моряка бросила Саита из-под тропиков далеко на север, за Полярный круг. Сухогрузное судно «Ямал», на котором казах-моряк шел вторым помощником, поднялось Беринговым проливом и двинулось на запад. Неблагоприятная ледовая обстановка помешала плаванию. Льды потащили «Ямал» на северо-запад, примерно по тому пути, на котором нашел свою гибель корабль Текльтона.
Жизнь на дрейфующем «Ямале» была заполнена неустанной разнообразной работой, не оставлявшей времени для уныния или паники. Больше всего усилий требовала борьба со сжатиями. Вдруг раздавался сигнал: «К авралу!» – и команда выбегала наверх. Из мрака полярной ночи доносился зловещий скрип. Он нарастал, делался резче, пронзительнее. Тишина. И снова скрежет. Все ближе, громче! При свете прожекторов видно, как ледяные валы подползают к судну.
Применялась активная оборона. Это означало, что моряки с аммоналом спускались на лед. Они старались добраться взрывом до воды. Гидравлический удар распространяется на значительной площади, взбаламученная взрывом вода ломает и крошит лед, распирает его снизу.
Пробить ломами многолетний лед нелегко, поэтому вначале закладывали небольшой заряд в трещину, проходившую поблизости, затем, выбрав из нее обломки льда, опускали туда основной заряд, весом в несколько десятков килограммов.
Бикфордов шнур горел минуты полторы, подрывники успевали за это время отбежать к кораблю.
Раздавался грохот. Льдины давали трещины. Обломки образовывали своеобразную пружинящую подушку, которая смягчала давление льдов на корабль.
На такие вылазки Сабиров всегда отправлялся с пустыми бутылками и мотком троса. Он добровольно взял на себя обязанности гидролога.
Льды несли «Ямал» по краю «белого пятна». Когда-то в этих же местах побывал Текльтон, но научные результаты его экспедиции были ничтожны. Надо было использовать для науки вынужденный дрейф «Ямала».
Пробы воды с различных горизонтов сохраняются обычно в специальных бутылках. Под рукой у Сабирова такой посуды, понятно, не было. Приходилось изворачиваться. Тайком от кока он опустошал буфет.
Какой-нибудь надменный ученый в мантии и шапочке, возможно, ужаснулся бы, увидев, что морская вода, взятая для научных исследований, разлита в склянки из-под лекарств, в узкогорлые флаконы неизвестного происхождения и даже в темные бутылки из-под пива.
Впрочем, каждую взятую пробу Сабиров тщательно закупоривал и заливал парафином. Этикетки были смыты с бутылок, вместо них выведены белилами порядковые номера.
Едва пробивали первым взрывом дыру во льду, как Сабиров поспешно разматывал трос, на конце которого закреплен был самодельный батометр. Надо было успеть взять пробу в течение того времени, пока подготовят второй, основной, заряд аммонала.
Восточно-Сибирское море – самое мелкое из всех советских арктических морей. Второй помощник имел возможность обходиться без лебедки.
«Вот оно, наше Восточно-Сибирское море! – с гордостью говорил он товарищам, указывая на множество разнокалиберных бутылок, расставленных на полочках над его койкой. – Все здесь, в моей каюте! Расфасовано, расписано, занумеровано…»
Второму помощнику не удалось доставить свое «расфасованное море» на материк. Весной в район дрейфа примчался циклон.
Не раз трепали Сабирова жестокие штормы в Северной Атлантике, довелось побывать и в центре тайфуна в Японском море, но страшнее всего показался ему циклон в Арктике. «Ямал» был раздавлен льдами и пошел ко дну.
При поспешной эвакуации на лед Сабиров успел захватить с собой только три флакона, оставленных с вечера в коридоре. Он пытался взять еще несколько, но тщетно. Дверь в каюту была завалена и зажата сломавшимися переборками. Товарищи едва вытащили его самого из коридора под руки.
Вывезенный на материк второй помощник долго отлеживался в госпитале. Только в середине зимы он отнес доставленные им склянки в лабораторию. По счастью, это были последние пробы, взятые в высоких широтах, в районе «белого пятна», где батометр доставал до дна.
Сабиров никогда ничего не слыхал о Земле Ветлугина. Лишь в санатории на Южном берегу Крыма попались ему в руки газеты, оживленно обсуждавшие эту волнующую загадку Арктики. Но и тогда второй помощник не думал, что три спасенные склянки примут участие в споре.
Между тем в них заключался самый убедительный, самый неоспоримый довод!
Дело в том, что часто с водой захватывалось со дна и немного грунта. В двух склянках грунт был обычный, морской, каким ему и положено быть. Зато в последней, третьей склянке неожиданно обнаружили примесь мелкозернистого гравия.
– Гравий? Неужели? – Мы с Андреем в волнении выскочили из-за стола.
Каждый моряк знает, что на далеком расстоянии от берега морское дно устлано илом и нежнейшим бархатистым песком. Гравий же попадается в открытом море лишь на подходах к островам или к мелководью. Вода размывает берег, подтачивает его и волочит свои трофеи по дну, унося их иногда на десятки километров от места размыва.
След к Земле Ветлугина, таким образом, проходил не только по льду (медвежонок), не только по воздуху (птицы), но и подо льдом, в воде (гравий в морском грунте).
Да, в недобрый час решился зубрила с первой парты на школярскую выходку: «списал» у нас с Андреем, или, деликатнее выражаясь, воспользовался собранными нами научными материалами.
Когда Сабиров бросил на весы спора щепоть гравия, поднятого им со дна Восточно-Сибирского моря, замешательство, почти паника, возникло в лагере наших противников. Довод был уж очень веским, хотя в нем не было, вероятно, и десяти-двенадцати миллиграммов.
5. Уход Весьегонска
Именно во время паузы в споре, которая, быть может, выглядела лишь как затишье перед порывом бури, мы получили письмо от Лизы.
В нем не было ничего о гравии или о перелетных птицах, но оно имело отношение к Земле Ветлугина.
Странно выглядел обратный адрес: «Подмосковная Атлантида». Это была, конечно, шутка в обычном стиле Лизы.
Она писала всего лишь из Весьегонска.
Так вот, стало быть, о какой новостройке шла речь! Лиза работала на сооружении гидроузла и Рыбинского водохранилища! Впрочем, уважительно называла водохранилище морем.
«Я расскажу вам об удивительном путешествии, во время которого не я приближалась к морю, а оно приближалось ко мне, – писала наша подружка. – В системе водохранилищ канала Москва – Волга Рыбинское самое большое. Расположено оно в междуречье Мологи и Шексны. Сейчас мы объединили эти реки.
Учтите, что на территории «Подмосковной Атлантиды» жило двести тысяч человек, располагались сотни сел и три города: Молога, Пошехонье и Весьегонск.
Официальное наименование нашей группы: «Отдел подготовки зон затопления». Здесь работают представители различных профессий: гидротехники, землеустроители, агромелиораторы и мы, инженеры-строители. Ведь подготовка к затоплению и само затопление – сложный комплекс самых разнообразных мероприятий.
Достаточно сказать, что в какой-нибудь месяц нам пришлось переселить более тридцати тысяч крестьянских хозяйств!
Поглядели бы вы на Мологу и Шексну в те дни! Тесно было от плотов. Села одно за другим проплывали вниз, уступая место морю.
Думаете, мы оставляли хоть что-нибудь на том месте, где стояли села? Что вы! Снимали и увозили постройки, разравнивали бугры, убирали дно под метелочку. Новенькое море должно было быть чистым и прозрачным, как хрустальный стакан!
В двух местах только оставили церковные колокольни. Так по сей день и торчат из воды. За них заступился Наркомат речного флота: понадобились как ориентиры для лоцманов.
А как мы поступили с городами, хотите спросить?
Пошехонье-Володарск удалось сохранить. Вокруг города воздвигли земляной вал, довольно высокий, примерно в три человеческих роста, и устроили дренаж. Он забирает воду, которая просачивается через землю, а насосы на построенной рядом насосной станции откачивают ее.
С городом Мологой, который, как вы знаете, стоял почти у впадения реки Мологи в Волгу, дело было посложнее. Территория, на которой располагался город, – самое низкое место водохранилища. Это и предопределило его участь.
Наверное, вы представляете себе ветхие домики, покосившиеся заборы, через которые лениво перекатывается вода? Нет! Ни домов, ни заборов уже не было, когда море пришло сюда. Город Молога при нашем содействии переехал с реки Мологи на Волгу и обосновался там, влившись в город Рыбинск.
И наконец, совсем по-другому сложилась судьба нашего Весьегонска.
Обваловывать его, подобно Пошехонью-Володарску, было трудно по техническим причинам. Город стоит на песке. Потребовалось бы сооружать очень большие насосные станции, которые могли бы откачать проникающую через глубокие пески воду. Дешевле и легче было передвинуть город, подать его несколько «в бочок», чтобы он не мешал морю и море не мешало ему.
Помните, бор подальше усадьбы Шабровых, над самым обрывом?.. Город теперь здесь! Мы подтянули его на пятнадцать метров вверх по берегу!..»
Однако Лиза, по ее словам, не присутствовала при окончательном водворении Весьегонска на новое место. Ее вызвали в Переборы.
Недавно это была ничем не примечательная деревенька, обязанная своим названием тому, что стояла у самого узкого места Волги. Зимой здесь перебирались путники по льду. Теперь Переборы стали центром строительства.
– Говорят, неплохо справлялись в Весьегонске, – сказали Лизе. – Вот вам повышение. Под ваше начало даются два трактора. Отправляйтесь с ними в Поречье. Эту деревню надо перевезти на пять километров в сторону от реки.
В Весьегонске дома перевозили грузовиками. Каждое деревянное здание разбиралось по бревнышку, грузилось в разобранном виде на машины, доставлялось на новое место и там собиралось. Дело долгое, муторное.
Домовозы, примененные Лизой в Поречье, изменили картину. К дому подъезжал трактор, за которым, поднимая клубы пыли, волочился диковинного вида прицеп. При ближайшем рассмотрении прицеп оказывался рамой-каркасом. Она надевалась на дом, снизу подводились катки, и тракторист, лихо сдвинув фуражку на ухо, выезжал на шоссе.
«Хорошо бы так и Весьегонск! – думала Лиза, присматривая за перевозкой Поречья. – Единым бы духом домчать! Впрячься бы всеми нашими тракторами – и в гору, в гору, на указанную городу высоту!..»
Но домовозы применялись пока на равнине. Весьегонск же перевозился с нижней террасы на верхнюю. Подъем был слишком крут.
Однако к моменту возвращения Лизы в Весьегонск там управились и без домовозов.
Внизу, в той части города, которая была предназначена к затоплению, сиротливо торчали кирпичные опоры фундаментов да кое-где, как шары перекати-поля, носились по пустырю брошенные жестяные банки из-под консервов.
Весьегонск был поднят над обрывом и утвержден на просторной зеленой площадке среди удивленно перешептывавшихся мачтовых сосен.
Но еще не вся работа была закончена. Дело было за цветами. Садоводы торопливо разбивали на улицах клумбы.
Когда же плотина у Переборов была воздвигнута и к высоким берегам прихлынула бурливая волжская вода, отсюда, с обрыва, открылся широчайший кругозор. У ног засияло новое, созданное руками людей море, а вдали поплыли красавцы корабли, белые, как лебеди…
Письмо из «Подмосковной Атлантиды» заканчивалось приглашением в гости:
«Приехали бы погостить, ребята! Оценили бы мою работу. Ведь вам, я знаю, полагается длительный отпуск, Вот и приезжайте! Жду».
Андрей испуганно посмотрел на меня.
– А ведь вдвоем не сможем.
– Почему?
– Экспедиция.
– Но Афанасьев сказал: не раньше августа…
– А вдруг?
Я задумался. Решение вопроса об экспедиции для поисков Земли Ветлугина было передано в высшую инстанцию. Афанасьев не очень обнадеживал насчет сроков. На очереди к рассмотрению немало других вопросов, помимо нашего. «Что-нибудь август, сентябрь, – прикидывал он. – Так и тамошние референты говорят. Даже в рифму получается: жди ответа к концу лета…»
Но Андрей был прав. А вдруг? Референтам могли понадобиться справки, какие-нибудь дополнительные данные, цифры.
Мало того. Это лето обещало стать знаменательным в истории освоения Арктики. В первый сквозной рейс по Северному морскому пути отправлялся «Сибиряков». Он должен был в одну навигацию пройти из Мурманска до Владивостока, то есть совершить нечто небывалое, а кое-кто считал даже: невозможное.
За плаванием ледокольного судна «Сибиряков» с понятным волнением следили в Советском Союзе и за границей.
Что же касается нас с Андреем, то мы связывали с этим плаванием особые надежды. Если Северный морской путь, рассуждали мы, сделается нормально действующей магистралью, если вдоль северного побережья Сибири следом за «Сибиряковым» потянутся караваны танкеров и сухогрузных кораблей, то увеличится и значение нашей Земли в Восточно-Сибирском море. Она станет нужнее как опорный пункт на последнем, самом трудном этапе пути. И тогда, быть может, поиски ее будут скорее и легче разрешены.
Вот какой тревожной и сложной была ситуация! Ухо приходилось держать востро. Рискованно было отлучаться из Москвы надолго, тем более вдвоем.
Мой друг огорченно оттопырил губы. Я подумал, что ему очень хочется поглядеть не только на Весьегонск, но и на одну из строительниц нового Весьегонска. Что ж, в добрый час! Судя по письму Лизы, в новом городе немало отличных мест для объяснения в любви. Например, обрыв. Мне представились длинные лунные дорожки на воде. Откуда-то снизу, может быть с проходящих пароходов, доносится негромкая музыка. Шуршат ветви сосен над головой. И близко, почти у самого лица, сияют узкие, чуть косо поставленные глаза со странным, вопросительным выражением.
– Выходит, ехать тебе, – сказал я.
– Почему же мне?
– Да уж потому. Сам знаешь почему. Я стихов не писал.
Но Андрей не захотел этой «жертвы», как он выразился.
– Жребий, жребий! – сказал он.
И опять мой друг выиграл. Ему выпало ехать, мне – оставаться.
Я проявил о нем заботу до конца.
– Не бери стихов, – посоветовал я, помогая ему укладываться. – Прочтешь ей после, когда поженитесь.
И с этим напутствием он уехал.
Мне стало немного грустно, когда он уехал.
Я привык, что в Москве мы проводим время все вместе: он, я и Лиза. Теперь я в Москве один, а Лиза и Андрей вдвоем в Весьегонске. Небось катаются по вечерам на лодке, и Лиза поет «Отраду». Потом идут зеленой улицей вверх, проходят мимо аккуратных бревенчатых домиков, обсаженных цветами, и медленно поднимаются к обрыву. Заходит солнце, стволы сосен делаются прозрачно-розовыми. К ночи начинают сильнее пахнуть маттиола и табак…
6. Бывшие бобыли
Однако вернулся Андрей неожиданно рано, не пробыв в Весьегонске и недели. Вернулся надутый, мрачный.
– Ты что, Лизу не видал?
– Видал. Уже купил обратный билет, а тут она заявляется. Объезжала район. В общем, разминулись с ней…
– И поговорить не удалось?
– Обменялись несколькими словами. Возвращается на будущей неделе в Москву.
Андрей рывком сдернул с себя плащ, швырнул на диван. Я с удивлением наблюдал за ним.
– Да ты не злись, – сказал я. – Ты по порядку рассказывай. Ну-с, сел ты, стало быть, на пароход…
Да, сел он в Москве на пароход. Чудесный лайнер, замечательный. Белым-белехонький, без пятнышка. Блеск, чистота, как полагается на морском корабле.
Море тоже было замечательное. (Читатель помнит, что Андрей не был щедр на эпитеты.) И покачивало основательно, не на шутку; в таких замкнутых со всех сторон водохранилищах ветер разводит большую волну.
Несмотря на сильный противный ветер, Андрей не уходил с палубы и разглядывал море в бинокль как строгий приемщик, как инспектор по качеству. Но придраться было не к чему: Лиза сделала свою работу хорошо.
Навстречу, ныряя в волнах, двигались пассажирские пароходы, нефтевозы, буксиры, баржи со строевым лесом.
Особенно много было плотов. Не тех хлипких, связанных кое-как, вереницы которых гоняли по Мологе когда-то, а сбитых особым образом, морских.
– Так называемые «сигары», – с удовольствием пояснил стоявший на палубе матрос. – Тяжелые плоты, по семь и по восемь тысяч кубометров. Плавучий дровяной склад.
Эти «плавучие склады» плыли на длинных тросах следом за пароходами. Теперь плотовщикам не приходилось маяться с плотами, как раньше, то и дело снимать их с мелей, проталкивать на перекатах. Море было глубоко и просторно.
Все расстояния с появлением Рыбинского моря чудесным образом сократились. Теперь от Пошехонья, Рыбинска и Весьегонска рукой было подать до Москвы.
Андрею вспомнился отъезд Петра Ариановича на железнодорожную станцию после его увольнения. На лошадях, по грязи, под дождем…
На рассвете лайнер Андрея остановился у причала Весьегонского порта.
Город, стоявший на высоком берегу, среди мачтовых сосен, выглядел гораздо красивее и компактнее, чем раньше. Андрею пришло на ум сравнение. Строители подняли Весьегонск на вытянутой ладони, чтобы видно было проходящим мимо кораблям: «Вот он, новый город! Смотрите, любуйтесь им!..»
И впрямь, огни Весьегонска, по свидетельству лоцманов, были видны в море издалека.
Размахивая чемоданчиком, Андрей медленно шел в гору по незнакомым улицам.
Вздорные собачонки, не признавшие в нем весьегонца, провожали его в качестве шумного эскорта от пристани до самой конторы. Но там моего друга ждало разочарование.
– Елизаветы Гавриловны нет, – сказали ему. – Уехала по трассе.
Андрей поставил чемодан на пол и с огорченным видом вытер платком лицо и шею.
Кудрявой машинистке, стучавшей в углу на «ундервуде», стало, видно, жаль его.
– А она скоро приедет, – утешила девушка Андрея, прервав свою трескотню. – Дня через два или через три. В Переборах побудет и в Ситцевом. Может, еще в Поморье заглянет. Она собирается в Москву, ей нельзя задерживаться…
Андрей подумал-подумал, посердился на Лизу, которая приглашает людей в гости, а сама исчезает в неизвестном направлении, и махнул в Поморье.
Часть пути он проделал на попутной машине, а у развилки шоссе сошел с грузовика, решив сократить расстояние и пройти к колхозу напрямик, берегом.
В Весьегонске ему довольно точно объяснили маршрут: «Все по столбам да по столбам – и дойдете».
Железные столбы-великаны шагали навстречу Андрею.
Собранная вместе вода Волги, Шексны и Мологи вертела турбины на гидростанции в Переборах, а электроэнергия, переданная оттуда по проводам, питала окрестные заводы, фабрики и колхозы.
Да, сбиться с дороги было мудрено.
Большое Поморье до постройки гидростанции называлось Поречьем.
Когда-то Андрей бывал здесь – еще с Петром Ариановичем. Тогда деревенька насчитывала, наверное, не более десятка изб, и было в них, помнится, что-то странное. Какие-то они были чуть ли не голенастые – как цапли!
Мой друг в задумчивости потер лоб. Остальные деревеньки вокруг Весьегонска как будто не производили такого впечатления? Их низкорослые, угрюмые избы с нахлобученными по самые наличники-брови крышами, казалось, ушли по пояс в землю: попробуй-ка выковыряй оттуда! Избы же Поречья, наоборот, выглядели так, словно бы задержались ненадолго на бережку приотдохнуть после длительного перелета. Крикни погромче на них, взмахни хворостиной, и тотчас испуганно взовьются, полетят дальше – искать более удобного места для ночлега.
Ну конечно, они же все стояли на сваях! Отсюда и это впечатление их непрочности, ненадежности.
Нынешнее Поморье не имело, понятно, ничего общего с дореволюционным Поречьем. Избы здесь стояли прочно – на кирпичном фундаменте.
Председателя колхоза Андрей разыскал на берегу, где рыбаки тянули сеть.
Оказалось, что Лизаветы Гавриловны, лица, по-видимому уважаемого, в Поморье нет; сегодня на колхозном грузовике отбыла в Переборы. А дед ее действительно проживает в колхозе.
– Деда мы вам представим, это у нас мигом, – бодро сказал председатель колхоза.
– Ну хоть бы деда, – растерянно ответил Андрей, думая про себя, что дед ему решительно ни к чему.
Присев на одну из перевернутых лодок, он угостил хозяев московскими папиросами. Завязался мало-помалу разговор, неторопливый, как оно и положено в такой тихий вечер на берегу моря.
Но тут явился дед – в картузе и праздничном черном пиджаке.
Хотя прошло немало лет, Андрей сразу же признал старика, который разводил канареек на продажу «по всей Российской империи». Он мало изменился, только побелел весь, да глаза выцвели, стали водянистыми, как у младенца.
На приветствие дед не ответил, недоверчиво приглядываясь к новому человеку.
– Старый старичок, – извиняющимся тоном заметил председатель. – Годов восемьдесят будет…
– И не восемьдесят вовсе, а семьдесят семь, – недовольно, тонким голосом поправил дед, подсаживаясь к рыбакам.
Сосед принялся скручивать ему толстенную цигарку из самосада: папирос дед не курил. Прерванный разговор возобновился.
– Слышали такое глупое слово «бобыль»? – сказал председатель, повернувшись к Андрею.
– Как будто… что-то…
– Ну, бобыль – значит одинокий, холостой. А у нас мужиков называли так, которые земли не имели. Без земли, стало быть, вроде как неженатый, холостой. Вот мы все, что нас видите, в бобылях числились до Советской власти. Я плоты гонял, этот в извозчиках был в Твери, дед птичек для купеческой услады разводил…
Все посмотрели на деда.
– А почему он птичками занимался? – продолжал председатель. – Потому что барыня с земли его согнала. У нее своей небось десятин с тыщу было, да еще дедовых две-три десятинки понадобились. Водой затопила их.
– Она плотину ставила, – уточнил один из колхозников. – Мельница ей понадобилась.
– Вот и смыло нашего деда с земли.
– Непростая, слышно, барыня была, – лениво заметил кто-то. – Тройная!
– Как это тройная?
– Три фамилии имела… Дед, а дед! Как ей фамилии-то были, обидчице твоей?
Обидчицу дед вспомнил сразу, будто проснулся.
– Княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон! – громко и внятно, как на перекличке, сказал он, подавшись всем туловищем вперед.
– А теперь он, гляди, какой, дед-то! – заключил председатель с удовольствием. – Его наше советское Рыбинское море с болота, со свай подняло и снова на твердую землю поставило…
Андрей почтительно посмотрел на старика, с которым произошли в жизни такие удивительные перемены: сначала «смыло» водой с плотины, поставленной «тройной барыней», потом, спустя много лет, светлая волна, набежав, подняла с болота у Мокрого Лога и бережно опустила на здешний зеленый колхозный берег.
Старый колхозник был, видимо, польщен оказанным вниманием. Выяснилось, что хотя он и не мог припомнить Андрея в лицо, но человека, говорившего о том, что синь-море само до него, деда, дойдет, помнил очень хорошо.
Был тот спокойный вечерний час, когда в воздухе после жаркого дня, полного хлопот, разливается успокоительная прохлада.
Так тихо по вечерам бывает, кажется, только в июле в средней полосе России. Даже облака как бы в раздумье остановились над головой. Водная поверхность сверкает, как отполированная: ни морщинки, ни рябинки!
В зеркале вод отражаются неподвижные кучевые облака, задумчивый лесок, ярко-зеленая луговина и разбросанные по берегу колхозные постройки. Там темнеет круглая силосная башня, здесь раскинулся просторный ток, а вдали, на холмах, высятся столбы электропередачи – обычный фон современного сельского пейзажа.
– Море в полной точности предсказал, – продолжал бормотать дед, не сводя глаз с моря. – Ну, просто сказать: как в воду глядел…
Андрей молча кивнул.
Пахло скошенной травой и сыростью от развешанных на кольях сетей.
За неподвижной грядой облаков заходило солнце. С величавой медлительностью менялась окраска Рыбинского моря. Со всех сторон обступили его тихие лиственные и хвойные леса, будто это была чаша зеленого стекла, налитая до краев. На глазах совершались в этой чаше волшебные превращения. Только что вода была нежно-голубого цвета, потом налилась густой синевой, и вдруг море стало ярко-пестрым, будто поднялись со дна и поплыли полосы, огненно-синяя коловерть.
Жаль, Лизы не было рядом!..
Утром, посоветовавшись с председателем, Андрей отказался от поездки в Переборы и вернулся пешком в Весьегонск. Он решил там дожидаться Лизу.
Четыре дня подряд слонялся мой друг по зеленым тихим улицам. Город был очень милый, уютный, но ничем не напоминал тот Весьегонск, в котором Андрей родился и провел детство. Никто не узнавал Андрея, и он никого не узнавал. В конце концов ему стало просто скучно в незнакомом городе.
Каждое утро, как на службу, приходил он в контору строительного участка и перебрасывался несколькими фразами с кудрявой машинисткой, которая принимала в нем участие. Обычно свое «Лизаветы Гавриловны нет, задерживается Лизавета Гавриловна» она произносила очень грустным голосом и смотрела на Андрея так, что ему становилось немного легче.
Однажды, протискиваясь к выходу, мой друг споткнулся о человека, который сидел на корточках у высокой пачки писчей бумаги и хлопотливо пересчитывал листы, то и дело слюнявя пальцы. Видна была только лысина внушительных размеров, розовая, почти излучавшая сияние.
– Федор Матвеич! – окликнули из-за столов. – Дайте же человеку пройти. Весь проход загородили пачками.
Сидевший на корточках обернулся. Что-то странное было в этом одутловатом, бритом актерском лице. Казалось, не хватает обычного грима: накладных усов и бороды.
Выпученными рачьими глазами со склеротическими прожилками он скользнул по Андрею.
– Ах, виноват, виноват, – вежливо сказал он. – Пожалуйте!
Он посторонился и нагнулся над бумагой, снова показав Андрею свою лысину.
Где-то Андрей уже видел эту лысину. Знакомая лысина! Забавно!.. Где же он ее видел?
Он потоптался в раздумье у порога, напрягая память, но так и не вспомнил.
Мысли были заняты другим. Сегодня пятый день его сидения в Весьегонске, а Лизы нет как нет! Он пятый день гуляет взад и вперед по Весьегонску, тогда как в Москве, возможно, решается судьба экспедиции, дело всей его жизни! Все ли там в порядке?
Машинально он шел по улицам, пока не очутился перед зданием порта. Ноги сами принесли его сюда.
Он справился в кассе о ближайшем пассажирском пароходе. Ага, ожидается через полчаса! Очень хорошо! Один билет до Москвы, будьте добры!
Последний раз тест пройден более 24 часов назад.
Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.
-
Вопрос 1 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется раздельно:
-
За чёрной (не)замёрзшей рекой белела даль. (Бек А.)
-
Вдруг лыжня круто свернула вправо к опушке, пересекла большую поляну и уткнулась в (не)прикрытую снегом россыпь. (Куликов А.)
-
В (не)осевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу. (Бакланов Г.)
-
Когда Никола разбудил меня, (не)заходящее солнце передвинулось на восток.(Беляев А.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 83%
ответили правильно83% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНе прикрытую снегом. У причастия
«прикрытую» есть зависимое слово «снегом»
, поэтому НЕ следует писать раздельно. -
-
Вопрос 2 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно:
-
По весенней, ещё (не) просохшей дороге мы ехали на беговых дрожках. (Соколов-Микитов И.)
-
Мальчишка смотрит (не)мигающими глазами на сестрёнку, что-то ей шепчет, показывает на пальцах какую-то фигурку. (Федосеев Г.)
-
Снег вокруг лежал чистый-чистый, никем (не)топтанный.(Богданов Н.)
-
Всё на месте, ничто (не)сдвинуто. (Стрелкова И.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 83%
ответили правильно83% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНемигающими. Полное причастие пишется с НЕ слитно. У него нет зависимых слов. Также к причастию не относится противопоставление.
-
-
Вопрос 3 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно:
-
Однако нашим мечтаниям (не)суждено было сбыться: (Арсеньев В.)
-
Стайка ребятишек, (не)взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. (Астафьев В.)
-
Кое-где на скалах полосами белел ещё (не)растаявший снег. (Вурдов Н.)
-
По (не)растаявшему грязному сугробу мы поднялись на взгорок. (Соколов-Микитов И.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 71%
ответили правильно71% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНерастаявшему. Причастие пишется с НЕ слитно. Оно является полным, без зависимых слов и противопоставления.
-
-
Вопрос 4 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно:
-
Улица за (не)мытым стеклом была пуста. (Дежнёв Н.)
-
Над самой прорубью навис белый, искрящийся, никем (не)тронутый снежный колпак. (Савин В.)
-
В гостиной проходили ее беседы о творчестве замечательного художника, (не)признанного при жизни, но теперь завоевывающего все более громкую славу. (Стрелкова И.)
-
Дальше этого (не)избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определённо зримое. (Воробьев К.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 66%
ответили правильно66% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНемытым. Полное причастие следует писать с НЕ слитно. У него нет зависимых слов, к нему не относится противопоставление.
-
-
Вопрос 5 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется раздельно:
-
На агрегате имелось такое количество кнопок и рычажков, что разобраться в них, да еще под (не)годующим взглядом завуча, было непросто. (Акунин Б.)
-
(Не)гаснущие молнии полосуют небо. (Федосеев Г.)
-
Солнце, ещё (не)вошедшее в силу, греет бережно и ласково.(Солоухин В.)
-
Невдалеке от станции стояла в полях каменная громада (не)достроенного костёла. (Паустовский К.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 72%
ответили правильно72% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуЕщё не вошедшее в силу. У причастия «вошедшее» есть зависимые слова, поэтому оно пишется с НЕ раздельно.
-
-
Вопрос 6 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется раздельно:
-
Мы ходили по коридорам и (не)запертым комнатам, ища признаков жизни. (Солоухин В.)
-
Огромная (не)исследованная страна простиралась на многие тысячи верст.(Северов П.)
-
Легко подпрыгнув, автомобиль соскользнул на обочину и остановился, как бы натолкнувшись на (не)видимую стенку. (Солоухин В.)
-
Правая передняя нога лошади (не)подкована.(Черненок М.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 69%
ответили правильно69% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуКраткие страдательные причастия следует писать с НЕ раздельно: не подкована.
-
-
Вопрос 7 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно:
-
В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, (не)имевших смысла. (Паустовский К.)
-
При посадке на какой-то ещё (не)достроенный запасной аэродром самолёт получил повреждение. (Рыбин А.)
-
Нa закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в (не)закрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. (Бунин И.)
-
Перечить деду Матвею и сейчас в нашей семье (не)принято. (Черненок М.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 53%
ответили правильно53% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНезакрытое. У этого полного причастия нет зависимых слов. К нему также не относится противопоставление. Причастие
«незакрытое»
пишется с НЕ слитно. -
-
Вопрос 8 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно:
-
Много документов, относящихся к эпохе великих русских географических открытий, (не)опубликовано…(Платов Л.)
-
Мать стояла у печки прямая, строгая и (не)мигающими глазами смотрела перед собой. (Титов В.)
-
Подумать только: письма написаны более пятнадцати лет назад — и забыты, (не)отправлены по назначению. (Платов Л.)
-
Но есть на полярной станции компас, один-единственный, который (не)подвержен влиянию бурь. (Платов Л.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 65%
ответили правильно65% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНемигающими. Это полное причастие, без относящегося к нему противопоставления и зависимых слов. НЕ в данном случае пишется с причастием слитно.
-
-
Вопрос 9 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется раздельно:
-
Впереди, из темноты, доносились крики и ауканье ребят, громкий смех Зины Кругловой, обиженное бормотанье Кита, (не)годующий голос Бяшки. (Рыбаков А.)
-
Но волчица убегала за добычей подальше, оставляя для подрастающих волчат (не)тронутыми богатые охотничьи угодья. (Зверев М.)
-
Жизнь на дрейфующем «Ямале» была заполнена неустанной разнообразной работой, (не)оставлявшей времени для уныния или паники. (Платов Л.)
-
Потом, через полчаса, когда он [Корнилов] уже верно спал и проснулся от скрипа двери, вошёл Потапов в галошах на босу ногу, в (не)заправленной рубахе и встал над ним. (Домбровский Ю.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 52%
ответили правильно52% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНе оставлявшей времени для уныния или паники. Причастие
«оставлявшей»
пишется с НЕ раздельно, т.к. у него есть зависимые слова. -
-
Вопрос 10 из 10
Укажите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно:
-
Он [Петруха] был бы, наверное, (не)причесан, если бы не стрижка под короткий ежик. (Солоухин В.)
-
Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его [Гараськи] тощее тело, были все в грязи, ещё (не)успевшей засохнуть. (Андреев Л.)
-
Видимо, в доме Афанасьевых (не)принято было касаться этой печальной темы. …(Платов Л.)
-
Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли (не)проданных лошадей, все сидел на телеге. (Бунин И.)
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
В вопросе ошибка?
Вы и еще 53%
ответили правильно53% ответили правильно
на этот вопрос
Пояснение к правильному ответуНепроданных. Полное причастие пишется с НЕ слитно. К нему не относятся зависимые слова или противопоставление.
-
Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.
-
Timur Cam
7/10
-
Полина Гонтарь
10/10
-
Макар Макоронов
10/10
-
Лидия Шольц
10/10
-
Stikbot Man
9/10
-
Иван Ефремов
10/10
-
Семён Стадников
5/10
-
Сергей Ефремов
10/10
-
Наталья Ананьева
10/10
-
Валентин Муравьёв
10/10
ТОП-3 теста
которые проходят вместе с этим

Тест «Не с причастиями» (7 класс) был разработан специально для того, чтобы учащиеся смогли проверить, насколько хорошо они ориентируются в данной теме. Работа над его заданиями поможет ребятам не только испытать себя, но и ликвидировать пробелы в знаниях о слитном и раздельном написании причастий с частицей не.
Самостоятельная работа над тестом будет также способствовать формированию у ребёнка навыка обращаться к своим знаниям и полагаться на собственные силы без подсказки взрослых. Поскольку проверочная работа в форме теста очень распространена в школе, работа с такими заданиями онлайн будет создавать для школьника ситуацию успеха.
Тест “Не с причастиями” для 7 класса с ответами – отличный тренинг для детей любого уровня знаний.
Рейтинг теста
3.8
Средняя оценка: 3.8
Всего получено оценок: 1992.
А какую оценку получите вы? Чтобы узнать — пройдите тест.
1. Ветлугин против Текльтона
Утром мы засели за письмо в редакцию «Вечерней Москвы». Я расположился за столом, решительно обмакнул перо в чернила и, почти донеся уже до бумаги, оставил его колебаться на весу. Андрей, прохаживавшийся по комнате, нетерпеливо спросил:
— Что же ты?
— А ты что? Диктуй.
— Но это же очень просто. Хотя бы так…
Он задумался, стоя посреди комнаты. Пауза затянулась.
Я вздохнул и написал:
«Уважаемый товарищ редактор! На днях в Вашей уважаемой газете опубликовано было одно удивившее нас интервью».
— Удивившее? — спросил Андрей, заглядывая через плечо. — Не то слово. Слишком слабо: удивившее!
Я дважды аккуратно зачеркнул фразу, подумал немного и снова написал ее. Затем заботливо поправил хвостик у буквы «д».
Подобные переживания знакомы, вероятно, всем людям, которые впервые усаживаются за статью для печати. Мы чувствовали себя ужасно глупыми и неуклюжими, как юнцы, после долгих колебаний и сомнений решившиеся наконец танцевать. Нет, недостаточно иметь две ноги, чтобы танцевать, как и знать грамоту для того, чтобы писать. Наш бывший первый ученик не колебался, не кряхтел. Просто вызвал корреспондента, который тут же, не сходя с места, обработал за него с полдюжины фактов, вычитанных из книг, и проворно тиснул в газету.
А пока мы с Андреем топтались на месте и увязали в длинных и вежливых придаточных предложениях, поправляя друг друга, нас опередили.
В «Географическом вестнике» появилась статья известного геолога, академика Афанасьева. Она называлась «В защиту оптимизма». Подзаголовок был такой: «Ветлугин против Текльтона».
«История полярных открытий — это история человеческого оптимизма, человеческой стойкости, — писал Афанасьев. — Казалось бы, конец, предел усилий, последняя черта! Но человек делает еще шаг — и за чертой неведомого открываются перед ним новые горизонты…
К.К.Союшкин упоминал в своем интервью об ошибке Росса. Это характерная ошибка. Я бы сказал, психологическая ошибка. Росс усомнился в возможности обогнуть Америку с севера. Ему показалось, что он уткнулся в тупик. Но тупика на самом деле не было. По следам Росса прошел на следующий год другой исследователь, Парри, и не увидел гор. Освещение было иным, меньше ли содержалось в воздухе влаги, но мираж не появился. Путешественник двинул вперед свой корабль и прошел по чистой воде. На месте же гор Крокера на карте возник пролив Ланкастера, который можно увидеть там и сейчас… Вот поучительный пример из истории географических открытий, особенно поучительный для тех, кто высказывается сейчас против Земли Ветлугина!»
«Не предрешаю вопроса о Земле, — заявил Афанасьев, — говорю лишь: не рубите сплеча! В науке верят не словам, а фактам. Фактов же пока слишком мало. И даже те, что есть, могут быть истолкованы по-разному».
Далее академик назвал Петра Ариановича Ветлугина!
С удивлением я и Андрей узнали в маститом авторе статьи того самого профессора, который благоволил к нашему учителю географии, переписывался с ним и высылал в Весьегонск новинки географической литературы.
Афанасьев признавал, что Петр Арианович был одним из самых многообещающих его учеников:
«П.А.Ветлугин был даровит. Труженик. Умница. И честный. Это очень важно в науке: быть честным, то есть не бояться выводов».
Старый учитель Петра Ариановича оказался гораздо более осведомленным, чем мы. Петр Арианович, по его словам, был выслан в Сибирь за то, что принимал участие в работе подпольной большевистской типографии. В те годы волна рабочего революционного движения, которая после подавления революции 1905 года временно пошла на убыль, снова начала нарастать, подниматься. Она подхватила и Ветлугина, вернувшегося в Москву.
Однако тогдашняя революционная ситуация (в Петербурге, как известно, уже воздвигались баррикады) была сорвана начавшейся мировой войной. Многие революционеры были арестованы. Среди них оказался и Петр Арианович.
Находясь в ссылке, сначала в Акмолинской губернии, потом на Крайнем Севере Сибири, он, по сведениям Афанасьева, продолжал свою научную деятельность, проводил метеорологические наблюдения, изучал многолетние мерзлые горные породы. Видимо, Петр Арианович умер еще до Октябрьской революции, потому что настойчивые поиски, предпринятые академиком, к сожалению, не увенчались успехом.
Вот какая это была статья — очень спокойная, сдержанная и в то же время внушительная. А ведь академик еще не знал об Улике Косвенной, которая продолжала блаженствовать на площадке молодняка, не подозревая о том, что она не только медвежонок, но и важный аргумент в научном споре…
— Слушай, ему же надо об Улике, — всполошился Андрей, вскакивая со стула. — Надо старика повести в зоопарк или в крайнем случае показать ее фотографию.
— И о голубых льдах рассказать…
Афанасьеву мы позвонили из ближайшего же автомата.
Нелегко было растолковать по телефону обстоятельства столь запутанного дела, пытаясь заодно как-то представиться, отрекомендоваться. Но, кажется, академик меня, в общем, понял. Он понял бы, я уверен, еще лучше, если бы Андрей не мешал мне. Мой друг топтался тут же, в тесной телефонной будке, делая многозначительные гримасы, хмуря брови и надоедливо бубня над самым ухом: «Про Улику ему объясни. Про голубые льды…»
— Мы с вами так сделаем, — сказал наконец Афанасьев. — Сегодня у нас что? Суббота? Завтра, стало быть, воскресенье. Вот и прошу завтра ко мне на дачу. Обо всем и поговорим. Адрес такой. Записывайте…
К Владимиру Викентьевичу Афанасьеву мы отправились не без трепета. Ведь это был покровитель нашего учителя, помогавший ему в самые трудные годы жизни, и, быть может, единственный человек, кроме нас, искренне расположенный к Петру Ариановичу и горевавший о его безвременной гибели. Мало того, это был академик, ученый с мировым именем, автор более двухсот научных трудов!
Но с первых же слов Афанасьева чувство неловкости и связанности исчезло. Нам стало удивительно просто с ним — почти как с Петром Ариановичем.
Он вышел на террасу, встречая нас, приветливо улыбающийся, очень похожий на елочного деда-мороза. У него была такая же пушистая четырехугольная борода и ласковые морщинки у глаз, но одет был не в тулуп и валенки, а по-летнему — в майку, тапки и какие-то полосатые брючки.
— Вот, Машенька, — сказал он церемонно, — позволь тебе представить…
Мы последовали за его высокой седой женой на террасу и уселись вокруг стола, на котором был сервирован чай.
Академик продолжал пытливо присматриваться к нам.
— Ну-с, хорошо, — произнес он, пододвигая ко мне печенье. — Так как же думаете искать свою Землю-невидимку?
— А мы хотим проверить гипотезу на слух. Если Землю никак не удастся увидеть, попробуем ее услышать.
— А, эхолот! Ну что же, правильно. Кропотливо и медленно, зато надежно. Тем более ежели такой туман… В истории исследований Арктики метод, конечно, новый, необычный, но… И как думаете; отзовутся ваши острова?
— Должны отозваться. Не могут не отозваться, — сказал Андрей, нахмурясь.
— Ну, ну, «не могут», «должны»… Очень хорошо! Погромче кричите, настойчивей зовите, обязательно отзовутся!
Лучики морщин побежали от глаз, он заулыбался. Затем уселся прочнее в кресло, со вкусом приготовляясь к обстоятельному разговору.
— Значит, прямо с университетской скамьи в Арктику? — начал Афанасьев. — И сколько пробыли там?
— Пять лет.
— Собственно, меньше пяти, — уточнил Андрей. — Если считать перерывы…
— И все в районе своего Восточно-Сибирского моря?
— Хотелось, знаете ли, поближе к Земле Ветлугина, — пояснил я. — Боялись упустить какую-нибудь счастливую возможность. По-нашему и вышло! Возьмите хотя бы голубые льды или того же медвежонка…
На этот раз спокойно и не спеша я перечислил все наши удачи и неудачи на пути к Земле Ветлугина.
— А вы чего ждали-то? Легко ли «белые пятна» с карты стирать!
— Нет, но…
— Ждали, наверно, что трудное начнется вне Москвы, уже во время экспедиции в высокие широты, в преддверии Земли Ветлугина?.. О, это только последний этап, завершающий! Много торосов возникнет еще до Восточно-Сибирского моря. Не удивляйтесь! И тряхнет вас, и сожмет во льдах.
Он с задором посмотрел на нас сбоку.
Но, вероятно, на наших лицах написано было только изумление, а не страх, потому что Владимир Викентьевич сразу смягчился.
Решительным движением он смахнул крошки со стола, точно среди них были и Союшкин с профессором Черепихиным, потом принялся прикидывать вслух:
— В этом году экспедицию, конечно, не успеют снарядить. Но в будущем — вполне вероятно. А подготовку научную начать сейчас же, немедля! Причем привлечь к обсуждению представителей самых разнообразных специальностей: гидрологов, метеорологов, гидрогеологов, гидробиологов и прочее. Экспедиция, по-видимому, должна быть комплексной. А вы как считаете?..
С ним не только легко было разговаривать, с ним было легко думать. Мысли возникали сами собой от соприкосновения с этим удивительно разносторонним, по-молодому гибким умом.
— Насчет тумана вполне правильно изволили заметить, — продолжал академик. — Амундсен, пролетев на дирижабле над полюсом, дальше не видел уже ничего, кроме тумана. Сам рассказывал мне об этом. Туман, по его словам, сгустился и держался на протяжении двадцати градусов, то есть более двух тысяч двухсот километров. Представляете? Внизу, понятно, могли остаться острова небольшой высоты, которые Амундсену не удалось заметить.
— Да, разительная аналогия!
Афанасьев интересовался не только возможностями применения эхолота. Он с увлечением вникал во все детали будущей экспедиции, даже встал из-за стола и быстро начертил на бумажной салфетке схему дополнительного крепления шпангоутов, которое считал очень важным для плавания в высоких широтах.
Только о своем любимом ученике избегал говорить, старательно, будто опасный подводный риф, обходя в разговоре его имя. Стоило мне или Андрею упомянуть Петра Ариановича, как Афанасьев тотчас же, с неуклюжей поспешностью, заговаривал о другом. При этом Машенька, многозначительно глядя на нас, поднимала брови. Видимо, в доме Афанасьевых не принято было касаться этой печальной темы.
В каких-нибудь полтора-два часа сложился в основном проект экспедиции к Земле Ветлугина.
— Вам бы и возглавить экспедицию, — закинул я удочку.
— А что такого? Я вполне! — Академик с бравым видом огляделся по сторонам.
Но Машенька, как неусыпный телохранитель стоявшая за его креслом, тотчас же нагнулась и настойчиво-предостерегающе, хотя и очень ласково, положила мужу руки на плечи.
Академик только сконфуженно покряхтел. Все было ясно без слов.
— Нет, статью об экспедиции, статью поскорей! — с преувеличенной бодростью сказал он, немного оправясь. — И без лишнего полемического задора, без этой, знаете ли, модной ныне шумихи, трескотни! Обоснованную статью, выдержанную в нарочито спокойных тонах!
Мы встали из-за стола, готовясь прощаться. Машенька напомнила мужу:
— А как же письма? Ты решился?
— Да, да. Конечно, я решился. Ты же видишь. Смешно и спрашивать.
Академик ушел в комнаты и снова появился на террасе, неся в руках пакет, аккуратно перевязанный бечевкой.
— Вот! — сказал он с некоторой торжественностью. — Здесь письма Пети Ветлугина из ссылки, из деревни Последней. Ничего особенного, но вам, наверное, интересно будет прочесть. Один ничтожный человек в Якутске задержал их доставкой из мести, из гнусного, мелкого, подлого чувства мести!.. Я не волнуюсь, Машенька, я просто говорю… Эти письма передали мне уже после революции. Они сохранились в архиве жандармского управления. Прочтете в сопроводительной записке…
2. На краю света
Вернувшись домой, мы занялись письмами Петра Ариановича.
Самое страшное в них были даты. Аккуратно проставленные в уголках пожелтевших от времени страниц, они первыми бросались в глаза. Подумать только: письма написаны более пятнадцати лет назад — и забыты, не отправлены по назначению. А Петр Арианович ничего не знал об этом!
Так мстил ему какой-то экзекутор или столоначальник из Якутска, надо думать, мелкая сошка, но, видимо, обладавшая неограниченными возможностями портить жизнь людям. О нем небрежно упоминалось в одном из писем. «При проезде своем через Якутск, — писал Петр Арианович, — я имел небольшую перебранку с местным мелким чиновничком и, к удовольствию окружающих, поставил его на место».
Однако «мелкий чиновничек, поставленный на место», вскоре с лихвой расквитался со своим обидчиком. Он попросту перестал отсылать его письма в Россию, а также передавать письма с воли. Вся корреспонденция незаконно задерживалась в Якутске, в тамошней канцелярии, и по вскрытии и прочтении вкладывалась в особую папку с надписью: «Переписка ссыльного поселенца П.Ветлугина».
Чего только, наверное, не передумал бедный ссыльный в свои долгие бессонные ночи на берегу пустынного моря!
Почему не пишут Вероника, профессор Афанасьев, московские товарищи? Почему, наконец, не пишет мать? (А мать, сгорбленная, жалкая, металась в это время по Весьегонску, упрашивая бывших сослуживцев сына заступиться, похлопотать, узнать у начальства, что же стряслось с ее Петюнюшкой, жив ли он, заболел ли, храни бог, не умер ли!)
Да, трудно пришлось тогда Петру Ариановичу. В одном из писем Афанасьеву есть фраза: «Полгода прошло, как ни от кого не имею вестей. Это, поверьте, самое тяжелое здесь. Будто наглухо заколотили в избе последнее слюдяное оконце…»
То-то, верно уж, ликовал «мелкий чиновничек» в Якутске, читая и перечитывая это письмо. И радостно ерзал взад и вперед на своем стуле, и подхихикивал в кулак, и корчил рожи другим канцеляристам, словно развеселившаяся злая обезьяна.
Почему-то мне казалось, что он был похож на нашего Фим Фимыча, весьегонского помощника классных наставников. Та же маленькая голова на жилистой верткой шее, тот же западающий рот, те же мертвенно-тусклые, белесые, больные глаза.
Тень, тень! Ни шагу без тени! Куда бы ни ступал Петр Арианович, даже за Полярный круг, длинная, дергающаяся тень тотчас появлялась за его спиной.
Однако не часто доводилось радоваться мстительному якутскому канцеляристу. Общий тон писем был бодрый, несмотря ни на что.
О пребывании в деревне Последней Петр Арканович писал Афанасьеву в таких же легких тонах, что и матери, о своем пребывании в казахской степи. Видимо, не хотел волновать старика, больше говорил о картинах природы: описывал северное сияние («Час, не меньше, стоял как вкопанный, не мог отвести глаз — такая красота!») или летнюю неводьбу на Севере, в которой ему довелось участвовать («Рыбы в устье нашей реки полным-полно, серебристая, толстая, чуть ли не сама сигает в сеть!»).
Деревня Последняя, где назначено было ему жить, представляла собой, собственно, посад, то есть избы располагались не в два ряда, а в один. Все они стояли на низком галечном берегу, в тундре, и только длинные, развешанные между ними рыбачьи сети оживляли однообразный пейзаж.
Петра Ариановича мучительно долго доставляли туда: сначала на перекладных, потом по железной дороге и, наконец, на барже по одной из многоводных сибирских рек.
И впрямь, судя по письмам, то был край света!..
Именно в такой деревеньке жил, наверно, отважный корщик Веденей «со товарищи». Может быть, даже, происходил отсюда, из Последней, и много лет назад, помолясь богу и простившись с домочадцами, отвалил на своем коче от здешних пологих берегов, «чтобы новые незнаемые землицы для Русской державы проведывать идти».
С обостренным вниманием и симпатией вглядывался Петр Арианович в лица окружавших его крестьян. Он тешил себя безобидной иллюзией, старался угадать в них праправнуков Веденея.
Еще раз — и в такой необычной обстановке! — наблюдал Петр Арианович удивительную жизненную силу русского человека, который умеет примениться к любым, самым суровым условиям жизни, не теряя при этом исконных качеств русского характера.
Все в деревне были безлошадными. На Севере лошади были ни к чему. Рыба кормила русских за Полярным кругом. Вокруг не росло ни одного, даже самого маленького, деревца. Зато южнее, за тысячи верст, была тайга, необозримые лесные пространства. Весной полая вода подмывала берега, с корнями выворачивала высоченные деревья и волокла вниз по течению к океану. Все лето население собирало плавник на берегу или вылавливало баграми из воды. На толстых стволах появлялись зарубки: кресты, зигзаги, галочки — владелец ставил свою «примету», свое тавро.
Требовалось очень много дров, потому что зимы были свирепые, особенно когда задувало с материка. Снег заносил избы по крышу, и приходилось откапываться, как после обвала.
Труд был единственным средством против тоски. Надо было работать, работать, наводить, ставить «пасти», собирать плавник, то есть жить, как живут все вокруг.
Для Петра Ариановича такой образ жизни имел и другое значение. Ведь он по-прежнему мечтал о том, чтобы отправиться на поиски островов в Восточно-Сибирском море. («Конечно, впоследствии, при более благоприятных обстоятельствах», — осторожно добавлял он.) Пребывание в ссылке на берегу Ледовитого океана можно было, таким образом, рассматривать как своеобразную тренировку, подготовку к будущей экспедиции.
«Я здоров абсолютно, — писал Петр Арианович из ссылки профессору Афанасьеву. — За здоровьем слежу. В общем, берегу его, только не так, как мне наказывала мать: не кутаюсь, не отлеживаюсь в сорокаградусные морозы на лежанке или на печи. Меня бы не уважали здесь, если бы я стал отлеживаться. Охочусь, рыбалю, много хожу на лыжах. Почти целый день на воздухе, в физическом труде. Вечером — за книгой либо за беседой. Не даю себе скучать».
«Судьба улыбнулась мне, — сообщал далее Петр Арианович, — послала товарища! А ведь пословица говорит: „Добрый товарищ — полпути“. Мы живем вместе. Он рабочий, кузнец, занялся на Севере старым своим ремеслом, и я помогаю ему у наковальни. Поглядели бы на меня, дорогой профессор, каков я в кожаном фартуке, с тяжелым молотом в руках. Что ни говори, кусок хлеба на старости», — шутил он.
И опять повторял: «Добрый товарищ — полпути». Неужели же речь шла только о том, чтобы скоротать вместе время ссылки? Не собирался ли Петр Арианович, выждав удобный момент, двинуться по маршруту Веденея — на северо-восток, к своим островам? Но где бы он добыл судно, ездовых собак, сани? И потом, он был ссыльный, которому не разрешали покидать место ссылки. Стало быть, упоминая о «пути», Петр Арианович делал намек на возможность побега?..
Последнее письмо с «края света» было датировано седьмым августа 1916 года. На этом вести обрывались.
3. След в воздухе
Лето в том году выдалось неважное, и пневмония уложила Афанасьева в постель раньше обычного срока.
А помощь академика была бы как нельзя более кстати. Спор, к сожалению, начался в чрезвычайно неблагоприятных для нас условиях — в четырех стенах Института землеведения.
Произошла закономерная вещь. В начале тридцатых годов даже это захолустное научно-исследовательское учреждение было неожиданно поставлено в необходимость заняться наконец «актуальной географической тематикой». Выбор главной темы определил уже известный читателю реферат «О так называемых…».
Положение осложнялось еще и тем, что тогдашние крупнейшие ученые-полярники, такие, как Шмидт, Визе, Зубов и другие, сосредоточили все свое внимание на проблеме скорейшего освоения Северного морского пути. Им было просто некогда, не до гипотетических земель. Поэтому ни Шмидт, ни Визе, ни Зубов не участвовали и не могли участвовать в затеянном нами споре о Земле Ветлугина.
Союшкину и Черепихину это, конечно, было на руку; нам с Андреем — нет.
Союшкин при этом оказался очень увертливым. Проявлял готовность пользоваться любыми приемами в споре, лишь бы взять верх. Так, он не постеснялся даже привлечь в качестве союзника старого провинциального сплетника и остряка, моего дядюшку!
Понятно, с полемической точки зрения было очень выгодно выставить в смешном виде автора гипотезы о неизвестных островах, отрекомендовать его этаким шутом гороховым, чудаком и недоучкой, почти что сумасшедшим. Это подрывало доверие к самой гипотезе. Расчет безошибочный. Вот почему бывший первый ученик вытащил на свет старые весьегонские анекдоты и сплетни и, заботливо отряхнув и сдунув с них пыль, тотчас же пустил по кругу.
Афанасьева он тоже изображал отчасти чудаком («верит, представьте себе, не только в Землю Ветлугина, но и в Землю Санникова и в Землю Андреева»). Однако то, что было простительно академику с мировым именем, написавшему свыше двухсот научных трудов, доктору Кембриджского и Оксфордского университетов, то ни под каким видом не дозволялось дилетанту, безвестному преподавателю уездного реального училища.
Летом 1931 года спор проходил при явном преимуществе Союшкина. Расстановка сил была не в нашу пользу.
Напрасно я и Андрей ссылались на Улику Косвенную, по-прежнему выставленную для всеобщего обозрения в Московском зоопарке. Союшкин заявил, что расчеты наши взяты с потолка: возраст медвежонка не может иметь никакого отношения к спору о Земле.
Напрасно — в который уже раз! — подробно комментировалось свидетельство Веденея «со товарищи». На это отвечали с непередаваемо кислой усмешкой: «Сказка». Напрасно мы приводили примеры с Амундсеном, Нобиле и Парри. Союшкин величественно вставал за своим письменным столом, как памятник самому себе, потом обличительным жестом указывал на фотографии, которыми был увешан его кабинет. То были мои и Андрея фотографии, сделанные весной во время полета в район «белого пятна».
Вот когда пригодилась закалка, полученная нами на мысе Шмидта и на острове Большой Ляховский, да, пожалуй, и раньше, в годы юности, когда я «догонял» Андрея, а «догнав», примостился подле него на колымаге, громыхающей пустыми бидонами, повторяя вслух даты из всеобщей истории и геометрические теоремы.
Нам повезло с Андреем. Юность у нас была трудная. Если бы Союшкин знал, какой она была трудной, то, возможно, не ввязался бы в драку с нами — поостерегся бы.
Во всяком случае, он, наверное, перекрестился или, по крайней мере, широко перевел дух, когда наше с Андреем пребывание в Москве закончилось и мы улетели на мыс Челюскин — зимовать (на этот раз вместе).
Вряд ли, однако, наш бывший первый ученик произвел бы указанные выше действия (перекрестился, перевел дух), знай он о том, что на мысе Челюскин нам предстоит свести самое близкое знакомство с Тынты Куркиным.
Имя и фамилия эти широко известны в Арктике. Тынты — охотник и каюр, то есть погонщик собак, который провел несколько лет на острове Врангеля вместе с Ушаковым и Минеевым, будучи их ближайшим помощником.
Мы вскоре подружились с ним.
Как-то вечерком Тынты зашел посидеть в комнату-келью, которую мы с Андреем занимали вдвоем.
Без особого интереса он пересмотрел «картинки» на стене: вид Весьегонска, кусок кремлевской стены, еще что-то. Потом надолго задержался взглядом на снимке Улики Косвенной.
— В клетке живет, ой-ой! Бедный! — Старый каюр, прищурясь, внимательно рассматривал фотографию медвежонка. — Поймали его где?
Андрей подробно и с удовольствием, как всегда, рассказал историю Улики Косвенной. Тынты слушал внимательно, не прерывая.
Я уже успел погрузиться в прерванную работу, как вдруг снова раздался скрипучий голос:
— Это ты правильно говоришь, что Земля. Есть Земля! — Старый охотник принялся неторопливо выколачивать пепел из трубки о ножку стола.
— Откуда знаешь, Тынты?
— А как же! Птиц видал. Летели в ту сторону. Значит, Земля!
Мы вскочили со своих мест и подсели поближе к охотнику, сохранявшему свой величественно-невозмутимый вид.
— Ну, ну, Тынты!
Оказалось, что в бытность свою на острове Врангеля Ушаков широко пользовался в научной работе помощью эскимосов-зверопромышленников. Был среди них и Тынты, который под руководством начальника острова обучился некоторым простейшим фенологическим и метеорологическим наблюдениям и очень гордился этим.
Однажды он отправился за мамонтовой костью в северную часть тундры. Был разгар полярной весны. Поиски утомили Тынты, и промышленник присел на обсохший моховой бугорок, чтобы в выданной ему Ушаковым клеенчатой тетради сделать несколько записей о силе ветра, облачности и т.д. Подняв голову, он увидел табунки гаг и кайр, которые летели вдоль побережья. Через минуту или две с неба заструился характерный прерывистый гомон: показались гуси, летевшие строем клина.
Тынты ощутил волнение охотника и, отбросив клеенчатую тетрадку, схватился за ружье. Но две или три стаи кайр и гаг круто изменили курс — чуть ли не под прямым углом — и полетели уже не вдоль берега, а в открытое море, на север. За ними, как привязанные, потянулись и гуси.
Как положено наблюдателю, охотник аккуратно занес удивительный факт в тетрадку.
А осенью товарищи Тынты наблюдали над островом Врангеля перелет нескольких стай гусей с севера на юг. Объяснение напрашивалось: по-видимому, где-то севернее, на другом конце Восточно-Сибирского моря, был остров или группа островов, на которых летовали, то есть проводили лето, птицы!
Важное сообщение Тынты тотчас же было передано по радио в Москву, потом с помощью наших московских друзей опубликовано в одной из газет.
Довод был блистательный. «След уводит по воздуху к Земле Ветлугина» — так называлась статья.
У Союшкина, однако, опять нашлись возражения.
«Почему надо предполагать, что птицы летуют на Земле? — спрашивал он. — А кромка льдов? Забыли о ней?»
Известно, что жизнь в летние месяцы бьет ключом у кромки вечных льдов. Вода здесь как бы удобрена питательными веществами. В ней пышно цветет фитопланктон, который по значению можно сравнить с ряской в реке. Он привлекает к кромке льдов рыб. Вдогонку за рыбами прилетают птицы, приплывают тюлени, и, наконец, к «большому обеденному столу» развалистой походкой поспешает белый медведь.
«Длинная цепочка, как видите, — заключал Союшкин с торжеством. — И одно из ее звеньев — птицы!»
Торжество его, впрочем, было недолгим.
«Вы правы, птицы встречаются у кромки льдов, — писал гидробиолог Вяхирев. — Гаги и кайры отдыхают здесь, ищут и находят корм. Гаги, но не гуси! Те питаются травкой и поэтому не могут надолго отрываться от земли. Кроме того, только там выполняют свою основную летнюю обязанность — выводят птенцов. А нам известна одна-единственная птица на земном шаре, которая настолько неприхотлива, что устраивает гнездовье на айсбергах. Это пингвины, встречающиеся лишь в Антарктике…»
Немедленно в спор о кайрах и гусях ввязалось несколько орнитологов: трое за нас, двое против.
В общем, сообщение Тынты Куркина возбудило большое оживление среди советских полярников.
Наши радисты только покряхтывали.
Ведь им приходилось сообщать нам, хоть и в общих чертах, обо всех перипетиях спора.
Но, помимо спорщиков, на свете существовали еще и влюбленные.
Незадолго перед отъездом в Арктику один из зимовщиков женился. С дороги он принялся изливать свои чувства по телеграфу, но нерегулярно, от станции к станции. Зато, прибыв на место назначения, стал посылать не менее одной нежной радиограммы в день.
Возможно, именно это дало толчок чувствам, дремавшим в душе Андрея.
Как-то вечером, когда я, вытянувшись на койке, просматривал перед сном «Справочник по температурным колебаниям моря Лаптевых», мой друг подошел ко мне и осторожно положил на одеяло четвертушку бумаги.
— Вот, понимаешь, накорябал тут кое-что, — сказал он, смущенно покашливая. — Как-то раз не спалось, понимаешь…
Это были стихи. Андрей писал стихи!
Я почти с ужасом, снизу вверх, посмотрел на него. Он отвернулся:
— Читай, читай…
Стихи были плохие, на этот счет не могло быть двух мнений. Рифмовались «розы» и «грезы», «любовь», «кровь» и даже «северное сияние» и «стенания».
Я бы не поверил в то, что это написано Андреем, деловитым, суховатым, собранным, если бы не знал его почерка. Бросалось в глаза несоответствие текста с почерком. Он был очень экономный, прямой и мелкий, без всяких завитушек. Было ясно само собой, что человек слишком занят, чтобы заниматься какими-то завитушками. И вдруг пожалуйте; «стенания», «сияние»!
— Ну как? — спросил новоявленный стихотворец сдавленным голосом.
Он, видите ли, жаждал похвал! Я сделал вид, что не нахожу слов.
— А ты прочти еще раз, — попросил Андрей.
Для очистки совести я прочел еще раз, стараясь выискать хоть что-нибудь сносное.
Эге-ге! Что это? У вдохновительницы моего друга — узкие глаза и рыжеватая кудрявая челочка надо лбом! Интересно! Я пристально посмотрел на стихотворца.
— Андрей! — строго сказал я.
— Ну что еще?
— У нее узкие глаза?
Андрей побагровел и попытался выдернуть у меня из рук стихотворение. Я отстранил его:
— И ты молчал? Очень хорошо? Столько времени скрывал от лучшего друга!.. Ай да Андрей! Я узнаю случайно из какого-то стихотворения, плохого к тому же… Узнаю последним!
— Почему же последним? — пробормотал Андрей, отворачиваясь. — Наоборот, ты узнаешь первым.
— А Лиза?
— Ну что ты! Она не знает ничего.
Я удивился.
— Видишь ли, в данном случае я обращаюсь к тебе как к человеку компетентному, — сказал Андрей, присаживаясь на мою койку.
Я сделал протестующий жест.
— Ну все равно! В общем, ты изучил все их женские штуки, ухищрения и повадки. А я, понимаешь, как-то подзапустил в своей жизни этот момент. Не было времени, что ли, черт его знает…
К моим обязанностям на полярной станции прибавилась, таким образом, еще одна: я стал тайным советником и консультантом по любовно-поэтическим делам!
Признаюсь, меня огорчал и возмущал скудный набор эпитетов, которыми располагал мой друг.
— Вот ты пишешь «карие». Темно-карие, светло-карие… Слабо это. Бедно. У нее янтарные глаза! — втолковывал я Андрею. — Цвета темного янтаря! А волосы — светлого янтаря. Вот сочетание!
— Янтарные? — переспрашивал Андрей с растерянным видом. — Да, да, именно янтарные! Спасибо тебе!
— Но о девичьих глазах, брат, писали уже миллион раз. Ты обрати внимание на брови. Вот что характерно для нее! У Лизы умные брови! Такие спокойные, прямые…
— Умные, прямые, — повторял за мной Андрей.
Долгими вечерами толкуя о прямых бровях и темно-янтарных глазах, я и сам по-новому увидел Лизу. Конечно, она была хорошенькая и очень милая. Но я как-то прозевал это, потому что привык видеть в Лизе девчонку с торчащими рыжими косичками, подругу детства, почти сестру. Сейчас отблеск чужой любви упал на нее и волшебно преобразил в моих глазах.
Понятно, я от всей души желал, чтобы они поженились, Андрей и Лиза, лучшие мои друзья. И все же иногда немного грустно становилось на душе. До сих пор дружба поровну разделялась между нами троими. Однако на двоих да еще на одного старой дружбы могло уже и не хватить. Сложная арифметика, и довольно грустная.
Но что бы там ни было, я честно трудился для пользы друга. Того и гляди, думал я, на Большую землю вдогонку за перелетными птицами помчатся любовные радиограммы Андрея.
Но до этого не дошло. Андрей не пожелал возвещать о своих чувствах на весь свет, выходить в эфир с любовным объяснением.
— Тут, знаешь, надо осторожно, планомерно, — пояснял он шепотом. — С глазу на глаз.
При этом он многозначительно похлопывал ладонью по своим стихотворениям. По-видимому, все же возлагал на них какие-то надежды.
4. Три флакона Сабирова
Но мы не застали Лизу, когда вернулись с мыса Челюскин. Лиза была на практике, на какой-то новостройке.
Это было досадно. Мы, признаться, уже разбаловались — привыкли к тому, что она всегда встречает нас в Москве на аэродроме. И наша комната без нее выглядела неуютной. А чай? Разве так полагалось заваривать праздничный чай в день возвращения зимовщиков из Арктики?
— Безобразие! — бурчал я, следя за тем, как Андрей толстыми кусками нарезает колбасу. (Он совсем не умел нарезать колбасу.) — Нашла, видишь ли, время по новостройкам своим раскатывать. Тут вон какая карусель закручивается с перелетными птицами! Нам ободрение, поддержка нужны. А она…
Я покосился на Андрея и замолчал. Лицо моего друга было печально и замкнуто. Ободрение, поддержка! И вечно я что-нибудь брякну вот так невпопад!
Раздался стук в дверь, негромкий, но настойчивый.
— Разрешите? — вежливо спросили за дверью.
— Да, да, пожалуйста!
Дверь отворилась, и в комнату, прихрамывая, вошел молодой человек небольшого роста, но очень коренастый, в плотно облегавшем морском кителе.
Смуглая кожа, с чуть проступавшим под ней румянцем, была туго натянута на могучих, как бы каменных, скулах. Казалось, они подпирают снизу глаза и делают прищур их еще более узким. Над верхней губой чернели коротенькие, подбритые по-модному усики.
— Не узнаете? — спросил моряк, дружелюбно улыбаясь. — Сабиров. С «Ямала». Второй помощник капитана…
Узнать было, конечно, нелегко. Члены команды «Ямала» в дни эвакуации выглядели на одно лицо: усталые, худые, заросшие многодневной щетиной.
Впрочем, я запомнил Сабирова. Ему повредили ногу при катастрофе, и товарищи вели его под руки. Меня удивило, что он брел по льду согнувшись, придерживая что-то локтем за пазухой.
Сейчас второй помощник был чисто выбрит, имел бодрый, веселый вид.
— Сабиров? — сказал Андрей, припоминая. — Это вы пререкались с пилотом, требовали уложить вас так, чтобы не трясло, а он сказал: «Боится толчков, точно стеклянный»?
— Правильно! Я и был стеклянный.
Посетитель осторожно вытащил из оттопыренных карманов кителя три небольших флакона, до половины наполненных водой.
— Не простая вода, — предупредил он. — Из Восточно-Сибирского моря! — И с некоторой торжественностью поставил флаконы среди вороха писем на стол.
— Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь, — сказал Андрей, приглядываясь к посетителю. — Ведь вы казах, судя по наружности?.. Никогда не видел казаха-моряка.
Сабиров деликатно, бочком, подсел к столу.
Да, он казах, родился в Акмолинске. Дед его, бывший погонщик верблюдов, был очень удивлен, когда ему сказали, что внук решил стать моряком. Казах хочет стать моряком!
«Оглянись, Саит, — требовал он. — Что видишь вокруг? Степь. Десятки дней надо ехать степью, чтобы добраться до ближайшего моря. Наше ли, казахов, дело водить по морям корабли?»
«Но Казахстан — это часть Советского Союза, — почтительно возражал деду Саит. — Ты ведь знаешь, что Советский Союз — морская держава. Казах — гражданин великой морской державы. Почему бы казаху не водить корабли?»
В ответ на ворчливые ссылки на историю, на то, что испокон веку не бывало еще казахов-моряков, внук только пожимал широкими плечами: ну что ж, он, Саит, значит, будет первым в истории казахом-моряком, только и всего!
Впрочем, когда упрямец, закончив в Ленинграде мореходное училище, совершил свое первое кругосветное плавание и приехал в гости к деду, старик смягчился.
Усевшись на полу на коврах и маленькими глотками отхлебывая чай из плоских чашек, родичи слушали моряка, с удивлением покачивали головами. Подумать только: он обошел вокруг Земли! Тайфун вертел его в страшной водяной карусели, и туманы стеной смыкались перед ним!
Деду Саит привез поющую раковину, купленную в Коломбо. Весь вечер бывший погонщик верблюдов просидел на почетном месте в своем праздничном халате, держа раковину в руках и поднося попеременно то к одному, то к другому уху. Внутри удивительного подарка был спрятан негромкий мелодичный гул, как бы отголосок далекого прибоя.
Заботливо завернутая в пестрый халат поющая раковина осталась под Акмолинском, а молодой штурман дальнего плавания продолжал плавать под южными широтами.
Наконец судьба моряка бросила Саита из-под тропиков далеко на север, за Полярный круг. Сухогрузное судно «Ямал», на котором казах-моряк шел вторым помощником, поднялось Беринговым проливом и двинулось на запад. Неблагоприятная ледовая обстановка помешала плаванию. Льды потащили «Ямал» на северо-запад, примерно по тому пути, на котором нашел свою гибель корабль Текльтона.
Жизнь на дрейфующем «Ямале» была заполнена неустанной разнообразной работой, не оставлявшей времени для уныния или паники. Больше всего усилий требовала борьба со сжатиями. Вдруг раздавался сигнал: «К авралу!» — и команда выбегала наверх. Из мрака полярной ночи доносился зловещий скрип. Он нарастал, делался резче, пронзительнее. Тишина. И снова скрежет. Все ближе, громче! При свете прожекторов видно, как ледяные валы подползают к судну.
Применялась активная оборона. Это означало, что моряки с аммоналом спускались на лед. Они старались добраться взрывом до воды. Гидравлический удар распространяется на значительной площади, взбаламученная взрывом вода ломает и крошит лед, распирает его снизу.
Пробить ломами многолетний лед нелегко, поэтому вначале закладывали небольшой заряд в трещину, проходившую поблизости, затем, выбрав из нее обломки льда, опускали туда основной заряд, весом в несколько десятков килограммов.
Бикфордов шнур горел минуты полторы, подрывники успевали за это время отбежать к кораблю.
Раздавался грохот. Льдины давали трещины. Обломки образовывали своеобразную пружинящую подушку, которая смягчала давление льдов на корабль.
На такие вылазки Сабиров всегда отправлялся с пустыми бутылками и мотком троса. Он добровольно взял на себя обязанности гидролога.
Льды несли «Ямал» по краю «белого пятна». Когда-то в этих же местах побывал Текльтон, но научные результаты его экспедиции были ничтожны. Надо было использовать для науки вынужденный дрейф «Ямала».
Пробы воды с различных горизонтов сохраняются обычно в специальных бутылках. Под рукой у Сабирова такой посуды, понятно, не было. Приходилось изворачиваться. Тайком от кока он опустошал буфет.
Какой-нибудь надменный ученый в мантии и шапочке, возможно, ужаснулся бы, увидев, что морская вода, взятая для научных исследований, разлита в склянки из-под лекарств, в узкогорлые флаконы неизвестного происхождения и даже в темные бутылки из-под пива.
Впрочем, каждую взятую пробу Сабиров тщательно закупоривал и заливал парафином. Этикетки были смыты с бутылок, вместо них выведены белилами порядковые номера.
Едва пробивали первым взрывом дыру во льду, как Сабиров поспешно разматывал трос, на конце которого закреплен был самодельный батометр. Надо было успеть взять пробу в течение того времени, пока подготовят второй, основной, заряд аммонала.
Восточно-Сибирское море — самое мелкое из всех советских арктических морей. Второй помощник имел возможность обходиться без лебедки.
«Вот оно, наше Восточно-Сибирское море! — с гордостью говорил он товарищам, указывая на множество разнокалиберных бутылок, расставленных на полочках над его койкой. — Все здесь, в моей каюте! Расфасовано, расписано, занумеровано…»
Второму помощнику не удалось доставить свое «расфасованное море» на материк. Весной в район дрейфа примчался циклон.
Не раз трепали Сабирова жестокие штормы в Северной Атлантике, довелось побывать и в центре тайфуна в Японском море, но страшнее всего показался ему циклон в Арктике. «Ямал» был раздавлен льдами и пошел ко дну.
При поспешной эвакуации на лед Сабиров успел захватить с собой только три флакона, оставленных с вечера в коридоре. Он пытался взять еще несколько, но тщетно. Дверь в каюту была завалена и зажата сломавшимися переборками. Товарищи едва вытащили его самого из коридора под руки.
Вывезенный на материк второй помощник долго отлеживался в госпитале. Только в середине зимы он отнес доставленные им склянки в лабораторию. По счастью, это были последние пробы, взятые в высоких широтах, в районе «белого пятна», где батометр доставал до дна.
Сабиров никогда ничего не слыхал о Земле Ветлугина. Лишь в санатории на Южном берегу Крыма попались ему в руки газеты, оживленно обсуждавшие эту волнующую загадку Арктики. Но и тогда второй помощник не думал, что три спасенные склянки примут участие в споре.
Между тем в них заключался самый убедительный, самый неоспоримый довод!
Дело в том, что часто с водой захватывалось со дна и немного грунта. В двух склянках грунт был обычный, морской, каким ему и положено быть. Зато в последней, третьей склянке неожиданно обнаружили примесь мелкозернистого гравия.
— Гравий? Неужели? — Мы с Андреем в волнении выскочили из-за стола.
Каждый моряк знает, что на далеком расстоянии от берега морское дно устлано илом и нежнейшим бархатистым песком. Гравий же попадается в открытом море лишь на подходах к островам или к мелководью. Вода размывает берег, подтачивает его и волочит свои трофеи по дну, унося их иногда на десятки километров от места размыва.
След к Земле Ветлугина, таким образом, проходил не только по льду (медвежонок), не только по воздуху (птицы), но и подо льдом, в воде (гравий в морском грунте).
Да, в недобрый час решился зубрила с первой парты на школярскую выходку: «списал» у нас с Андреем, или, деликатнее выражаясь, воспользовался собранными нами научными материалами.
Когда Сабиров бросил на весы спора щепоть гравия, поднятого им со дна Восточно-Сибирского моря, замешательство, почти паника, возникло в лагере наших противников. Довод был уж очень веским, хотя в нем не было, вероятно, и десяти-двенадцати миллиграммов.
5. Уход Весьегонска
Именно во время паузы в споре, которая, быть может, выглядела лишь как затишье перед порывом бури, мы получили письмо от Лизы.
В нем не было ничего о гравии или о перелетных птицах, но оно имело отношение к Земле Ветлугина.
Странно выглядел обратный адрес: «Подмосковная Атлантида». Это была, конечно, шутка в обычном стиле Лизы.
Она писала всего лишь из Весьегонска.
Так вот, стало быть, о какой новостройке шла речь! Лиза работала на сооружении гидроузла и Рыбинского водохранилища! Впрочем, уважительно называла водохранилище морем.
«Я расскажу вам об удивительном путешествии, во время которого не я приближалась к морю, а оно приближалось ко мне, — писала наша подружка. — В системе водохранилищ канала Москва — Волга Рыбинское самое большое. Расположено оно в междуречье Мологи и Шексны. Сейчас мы объединили эти реки.
Учтите, что на территории «Подмосковной Атлантиды» жило двести тысяч человек, располагались сотни сел и три города: Молога, Пошехонье и Весьегонск.
Официальное наименование нашей группы: «Отдел подготовки зон затопления». Здесь работают представители различных профессий: гидротехники, землеустроители, агромелиораторы и мы, инженеры-строители. Ведь подготовка к затоплению и само затопление — сложный комплекс самых разнообразных мероприятий.
Достаточно сказать, что в какой-нибудь месяц нам пришлось переселить более тридцати тысяч крестьянских хозяйств!
Поглядели бы вы на Мологу и Шексну в те дни! Тесно было от плотов. Села одно за другим проплывали вниз, уступая место морю.
Думаете, мы оставляли хоть что-нибудь на том месте, где стояли села? Что вы! Снимали и увозили постройки, разравнивали бугры, убирали дно под метелочку. Новенькое море должно было быть чистым и прозрачным, как хрустальный стакан!
В двух местах только оставили церковные колокольни. Так по сей день и торчат из воды. За них заступился Наркомат речного флота: понадобились как ориентиры для лоцманов.
А как мы поступили с городами, хотите спросить?
Пошехонье-Володарск удалось сохранить. Вокруг города воздвигли земляной вал, довольно высокий, примерно в три человеческих роста, и устроили дренаж. Он забирает воду, которая просачивается через землю, а насосы на построенной рядом насосной станции откачивают ее.
С городом Мологой, который, как вы знаете, стоял почти у впадения реки Мологи в Волгу, дело было посложнее. Территория, на которой располагался город, — самое низкое место водохранилища. Это и предопределило его участь.
Наверное, вы представляете себе ветхие домики, покосившиеся заборы, через которые лениво перекатывается вода? Нет! Ни домов, ни заборов уже не было, когда море пришло сюда. Город Молога при нашем содействии переехал с реки Мологи на Волгу и обосновался там, влившись в город Рыбинск.
И наконец, совсем по-другому сложилась судьба нашего Весьегонска.
Обваловывать его, подобно Пошехонью-Володарску, было трудно по техническим причинам. Город стоит на песке. Потребовалось бы сооружать очень большие насосные станции, которые могли бы откачать проникающую через глубокие пески воду. Дешевле и легче было передвинуть город, подать его несколько «в бочок», чтобы он не мешал морю и море не мешало ему.
Помните, бор подальше усадьбы Шабровых, над самым обрывом?.. Город теперь здесь! Мы подтянули его на пятнадцать метров вверх по берегу!..»
Однако Лиза, по ее словам, не присутствовала при окончательном водворении Весьегонска на новое место. Ее вызвали в Переборы.
Недавно это была ничем не примечательная деревенька, обязанная своим названием тому, что стояла у самого узкого места Волги. Зимой здесь перебирались путники по льду. Теперь Переборы стали центром строительства.
— Говорят, неплохо справлялись в Весьегонске, — сказали Лизе. — Вот вам повышение. Под ваше начало даются два трактора. Отправляйтесь с ними в Поречье. Эту деревню надо перевезти на пять километров в сторону от реки.
В Весьегонске дома перевозили грузовиками. Каждое деревянное здание разбиралось по бревнышку, грузилось в разобранном виде на машины, доставлялось на новое место и там собиралось. Дело долгое, муторное.
Домовозы, примененные Лизой в Поречье, изменили картину. К дому подъезжал трактор, за которым, поднимая клубы пыли, волочился диковинного вида прицеп. При ближайшем рассмотрении прицеп оказывался рамой-каркасом. Она надевалась на дом, снизу подводились катки, и тракторист, лихо сдвинув фуражку на ухо, выезжал на шоссе.
«Хорошо бы так и Весьегонск! — думала Лиза, присматривая за перевозкой Поречья. — Единым бы духом домчать! Впрячься бы всеми нашими тракторами — и в гору, в гору, на указанную городу высоту!..»
Но домовозы применялись пока на равнине. Весьегонск же перевозился с нижней террасы на верхнюю. Подъем был слишком крут.
Однако к моменту возвращения Лизы в Весьегонск там управились и без домовозов.
Внизу, в той части города, которая была предназначена к затоплению, сиротливо торчали кирпичные опоры фундаментов да кое-где, как шары перекати-поля, носились по пустырю брошенные жестяные банки из-под консервов.
Весьегонск был поднят над обрывом и утвержден на просторной зеленой площадке среди удивленно перешептывавшихся мачтовых сосен.
Но еще не вся работа была закончена. Дело было за цветами. Садоводы торопливо разбивали на улицах клумбы.
Когда же плотина у Переборов была воздвигнута и к высоким берегам прихлынула бурливая волжская вода, отсюда, с обрыва, открылся широчайший кругозор. У ног засияло новое, созданное руками людей море, а вдали поплыли красавцы корабли, белые, как лебеди…
Письмо из «Подмосковной Атлантиды» заканчивалось приглашением в гости:
«Приехали бы погостить, ребята! Оценили бы мою работу. Ведь вам, я знаю, полагается длительный отпуск, Вот и приезжайте! Жду».
Андрей испуганно посмотрел на меня.
— А ведь вдвоем не сможем.
— Почему?
— Экспедиция.
— Но Афанасьев сказал: не раньше августа…
— А вдруг?
Я задумался. Решение вопроса об экспедиции для поисков Земли Ветлугина было передано в высшую инстанцию. Афанасьев не очень обнадеживал насчет сроков. На очереди к рассмотрению немало других вопросов, помимо нашего. «Что-нибудь август, сентябрь, — прикидывал он. — Так и тамошние референты говорят. Даже в рифму получается: жди ответа к концу лета…»
Но Андрей был прав. А вдруг? Референтам могли понадобиться справки, какие-нибудь дополнительные данные, цифры.
Мало того. Это лето обещало стать знаменательным в истории освоения Арктики. В первый сквозной рейс по Северному морскому пути отправлялся «Сибиряков». Он должен был в одну навигацию пройти из Мурманска до Владивостока, то есть совершить нечто небывалое, а кое-кто считал даже: невозможное.
За плаванием ледокольного судна «Сибиряков» с понятным волнением следили в Советском Союзе и за границей.
Что же касается нас с Андреем, то мы связывали с этим плаванием особые надежды. Если Северный морской путь, рассуждали мы, сделается нормально действующей магистралью, если вдоль северного побережья Сибири следом за «Сибиряковым» потянутся караваны танкеров и сухогрузных кораблей, то увеличится и значение нашей Земли в Восточно-Сибирском море. Она станет нужнее как опорный пункт на последнем, самом трудном этапе пути. И тогда, быть может, поиски ее будут скорее и легче разрешены.
Вот какой тревожной и сложной была ситуация! Ухо приходилось держать востро. Рискованно было отлучаться из Москвы надолго, тем более вдвоем.
Мой друг огорченно оттопырил губы. Я подумал, что ему очень хочется поглядеть не только на Весьегонск, но и на одну из строительниц нового Весьегонска. Что ж, в добрый час! Судя по письму Лизы, в новом городе немало отличных мест для объяснения в любви. Например, обрыв. Мне представились длинные лунные дорожки на воде. Откуда-то снизу, может быть с проходящих пароходов, доносится негромкая музыка. Шуршат ветви сосен над головой. И близко, почти у самого лица, сияют узкие, чуть косо поставленные глаза со странным, вопросительным выражением.
— Выходит, ехать тебе, — сказал я.
— Почему же мне?
— Да уж потому. Сам знаешь почему. Я стихов не писал.
Но Андрей не захотел этой «жертвы», как он выразился.
— Жребий, жребий! — сказал он.
И опять мой друг выиграл. Ему выпало ехать, мне — оставаться.
Я проявил о нем заботу до конца.
— Не бери стихов, — посоветовал я, помогая ему укладываться. — Прочтешь ей после, когда поженитесь.
И с этим напутствием он уехал.
Мне стало немного грустно, когда он уехал.
Я привык, что в Москве мы проводим время все вместе: он, я и Лиза. Теперь я в Москве один, а Лиза и Андрей вдвоем в Весьегонске. Небось катаются по вечерам на лодке, и Лиза поет «Отраду». Потом идут зеленой улицей вверх, проходят мимо аккуратных бревенчатых домиков, обсаженных цветами, и медленно поднимаются к обрыву. Заходит солнце, стволы сосен делаются прозрачно-розовыми. К ночи начинают сильнее пахнуть маттиола и табак…
6. Бывшие бобыли
Однако вернулся Андрей неожиданно рано, не пробыв в Весьегонске и недели. Вернулся надутый, мрачный.
— Ты что, Лизу не видал?
— Видал. Уже купил обратный билет, а тут она заявляется. Объезжала район. В общем, разминулись с ней…
— И поговорить не удалось?
— Обменялись несколькими словами. Возвращается на будущей неделе в Москву.
Андрей рывком сдернул с себя плащ, швырнул на диван. Я с удивлением наблюдал за ним.
— Да ты не злись, — сказал я. — Ты по порядку рассказывай. Ну-с, сел ты, стало быть, на пароход…
Да, сел он в Москве на пароход. Чудесный лайнер, замечательный. Белым-белехонький, без пятнышка. Блеск, чистота, как полагается на морском корабле.
Море тоже было замечательное. (Читатель помнит, что Андрей не был щедр на эпитеты.) И покачивало основательно, не на шутку; в таких замкнутых со всех сторон водохранилищах ветер разводит большую волну.
Несмотря на сильный противный ветер, Андрей не уходил с палубы и разглядывал море в бинокль как строгий приемщик, как инспектор по качеству. Но придраться было не к чему: Лиза сделала свою работу хорошо.
Навстречу, ныряя в волнах, двигались пассажирские пароходы, нефтевозы, буксиры, баржи со строевым лесом.
Особенно много было плотов. Не тех хлипких, связанных кое-как, вереницы которых гоняли по Мологе когда-то, а сбитых особым образом, морских.
— Так называемые «сигары», — с удовольствием пояснил стоявший на палубе матрос. — Тяжелые плоты, по семь и по восемь тысяч кубометров. Плавучий дровяной склад.
Эти «плавучие склады» плыли на длинных тросах следом за пароходами. Теперь плотовщикам не приходилось маяться с плотами, как раньше, то и дело снимать их с мелей, проталкивать на перекатах. Море было глубоко и просторно.
Все расстояния с появлением Рыбинского моря чудесным образом сократились. Теперь от Пошехонья, Рыбинска и Весьегонска рукой было подать до Москвы.
Андрею вспомнился отъезд Петра Ариановича на железнодорожную станцию после его увольнения. На лошадях, по грязи, под дождем…
На рассвете лайнер Андрея остановился у причала Весьегонского порта.
Город, стоявший на высоком берегу, среди мачтовых сосен, выглядел гораздо красивее и компактнее, чем раньше. Андрею пришло на ум сравнение. Строители подняли Весьегонск на вытянутой ладони, чтобы видно было проходящим мимо кораблям: «Вот он, новый город! Смотрите, любуйтесь им!..»
И впрямь, огни Весьегонска, по свидетельству лоцманов, были видны в море издалека.
Размахивая чемоданчиком, Андрей медленно шел в гору по незнакомым улицам.
Вздорные собачонки, не признавшие в нем весьегонца, провожали его в качестве шумного эскорта от пристани до самой конторы. Но там моего друга ждало разочарование.
— Елизаветы Гавриловны нет, — сказали ему. — Уехала по трассе.
Андрей поставил чемодан на пол и с огорченным видом вытер платком лицо и шею.
Кудрявой машинистке, стучавшей в углу на «ундервуде», стало, видно, жаль его.
— А она скоро приедет, — утешила девушка Андрея, прервав свою трескотню. — Дня через два или через три. В Переборах побудет и в Ситцевом. Может, еще в Поморье заглянет. Она собирается в Москву, ей нельзя задерживаться…
Андрей подумал-подумал, посердился на Лизу, которая приглашает людей в гости, а сама исчезает в неизвестном направлении, и махнул в Поморье.
Часть пути он проделал на попутной машине, а у развилки шоссе сошел с грузовика, решив сократить расстояние и пройти к колхозу напрямик, берегом.
В Весьегонске ему довольно точно объяснили маршрут: «Все по столбам да по столбам — и дойдете».
Железные столбы-великаны шагали навстречу Андрею.
Собранная вместе вода Волги, Шексны и Мологи вертела турбины на гидростанции в Переборах, а электроэнергия, переданная оттуда по проводам, питала окрестные заводы, фабрики и колхозы.
Да, сбиться с дороги было мудрено.
Большое Поморье до постройки гидростанции называлось Поречьем.
Когда-то Андрей бывал здесь — еще с Петром Ариановичем. Тогда деревенька насчитывала, наверное, не более десятка изб, и было в них, помнится, что-то странное. Какие-то они были чуть ли не голенастые — как цапли!
Мой друг в задумчивости потер лоб. Остальные деревеньки вокруг Весьегонска как будто не производили такого впечатления? Их низкорослые, угрюмые избы с нахлобученными по самые наличники-брови крышами, казалось, ушли по пояс в землю: попробуй-ка выковыряй оттуда! Избы же Поречья, наоборот, выглядели так, словно бы задержались ненадолго на бережку приотдохнуть после длительного перелета. Крикни погромче на них, взмахни хворостиной, и тотчас испуганно взовьются, полетят дальше — искать более удобного места для ночлега.
Ну конечно, они же все стояли на сваях! Отсюда и это впечатление их непрочности, ненадежности.
Нынешнее Поморье не имело, понятно, ничего общего с дореволюционным Поречьем. Избы здесь стояли прочно — на кирпичном фундаменте.
Председателя колхоза Андрей разыскал на берегу, где рыбаки тянули сеть.
Оказалось, что Лизаветы Гавриловны, лица, по-видимому уважаемого, в Поморье нет; сегодня на колхозном грузовике отбыла в Переборы. А дед ее действительно проживает в колхозе.
— Деда мы вам представим, это у нас мигом, — бодро сказал председатель колхоза.
— Ну хоть бы деда, — растерянно ответил Андрей, думая про себя, что дед ему решительно ни к чему.
Присев на одну из перевернутых лодок, он угостил хозяев московскими папиросами. Завязался мало-помалу разговор, неторопливый, как оно и положено в такой тихий вечер на берегу моря.
Но тут явился дед — в картузе и праздничном черном пиджаке.
Хотя прошло немало лет, Андрей сразу же признал старика, который разводил канареек на продажу «по всей Российской империи». Он мало изменился, только побелел весь, да глаза выцвели, стали водянистыми, как у младенца.
На приветствие дед не ответил, недоверчиво приглядываясь к новому человеку.
— Старый старичок, — извиняющимся тоном заметил председатель. — Годов восемьдесят будет…
— И не восемьдесят вовсе, а семьдесят семь, — недовольно, тонким голосом поправил дед, подсаживаясь к рыбакам.
Сосед принялся скручивать ему толстенную цигарку из самосада: папирос дед не курил. Прерванный разговор возобновился.
— Слышали такое глупое слово «бобыль»? — сказал председатель, повернувшись к Андрею.
— Как будто… что-то…
— Ну, бобыль — значит одинокий, холостой. А у нас мужиков называли так, которые земли не имели. Без земли, стало быть, вроде как неженатый, холостой. Вот мы все, что нас видите, в бобылях числились до Советской власти. Я плоты гонял, этот в извозчиках был в Твери, дед птичек для купеческой услады разводил…
Все посмотрели на деда.
— А почему он птичками занимался? — продолжал председатель. — Потому что барыня с земли его согнала. У нее своей небось десятин с тыщу было, да еще дедовых две-три десятинки понадобились. Водой затопила их.
— Она плотину ставила, — уточнил один из колхозников. — Мельница ей понадобилась.
— Вот и смыло нашего деда с земли.
— Непростая, слышно, барыня была, — лениво заметил кто-то. — Тройная!
— Как это тройная?
— Три фамилии имела… Дед, а дед! Как ей фамилии-то были, обидчице твоей?
Обидчицу дед вспомнил сразу, будто проснулся.
— Княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон! — громко и внятно, как на перекличке, сказал он, подавшись всем туловищем вперед.
— А теперь он, гляди, какой, дед-то! — заключил председатель с удовольствием. — Его наше советское Рыбинское море с болота, со свай подняло и снова на твердую землю поставило…
Андрей почтительно посмотрел на старика, с которым произошли в жизни такие удивительные перемены: сначала «смыло» водой с плотины, поставленной «тройной барыней», потом, спустя много лет, светлая волна, набежав, подняла с болота у Мокрого Лога и бережно опустила на здешний зеленый колхозный берег.
Старый колхозник был, видимо, польщен оказанным вниманием. Выяснилось, что хотя он и не мог припомнить Андрея в лицо, но человека, говорившего о том, что синь-море само до него, деда, дойдет, помнил очень хорошо.
Был тот спокойный вечерний час, когда в воздухе после жаркого дня, полного хлопот, разливается успокоительная прохлада.
Так тихо по вечерам бывает, кажется, только в июле в средней полосе России. Даже облака как бы в раздумье остановились над головой. Водная поверхность сверкает, как отполированная: ни морщинки, ни рябинки!
В зеркале вод отражаются неподвижные кучевые облака, задумчивый лесок, ярко-зеленая луговина и разбросанные по берегу колхозные постройки. Там темнеет круглая силосная башня, здесь раскинулся просторный ток, а вдали, на холмах, высятся столбы электропередачи — обычный фон современного сельского пейзажа.
— Море в полной точности предсказал, — продолжал бормотать дед, не сводя глаз с моря. — Ну, просто сказать: как в воду глядел…
Андрей молча кивнул.
Пахло скошенной травой и сыростью от развешанных на кольях сетей.
За неподвижной грядой облаков заходило солнце. С величавой медлительностью менялась окраска Рыбинского моря. Со всех сторон обступили его тихие лиственные и хвойные леса, будто это была чаша зеленого стекла, налитая до краев. На глазах совершались в этой чаше волшебные превращения. Только что вода была нежно-голубого цвета, потом налилась густой синевой, и вдруг море стало ярко-пестрым, будто поднялись со дна и поплыли полосы, огненно-синяя коловерть.
Жаль, Лизы не было рядом!..
Утром, посоветовавшись с председателем, Андрей отказался от поездки в Переборы и вернулся пешком в Весьегонск. Он решил там дожидаться Лизу.
Четыре дня подряд слонялся мой друг по зеленым тихим улицам. Город был очень милый, уютный, но ничем не напоминал тот Весьегонск, в котором Андрей родился и провел детство. Никто не узнавал Андрея, и он никого не узнавал. В конце концов ему стало просто скучно в незнакомом городе.
Каждое утро, как на службу, приходил он в контору строительного участка и перебрасывался несколькими фразами с кудрявой машинисткой, которая принимала в нем участие. Обычно свое «Лизаветы Гавриловны нет, задерживается Лизавета Гавриловна» она произносила очень грустным голосом и смотрела на Андрея так, что ему становилось немного легче.
Однажды, протискиваясь к выходу, мой друг споткнулся о человека, который сидел на корточках у высокой пачки писчей бумаги и хлопотливо пересчитывал листы, то и дело слюнявя пальцы. Видна была только лысина внушительных размеров, розовая, почти излучавшая сияние.
— Федор Матвеич! — окликнули из-за столов. — Дайте же человеку пройти. Весь проход загородили пачками.
Сидевший на корточках обернулся. Что-то странное было в этом одутловатом, бритом актерском лице. Казалось, не хватает обычного грима: накладных усов и бороды.
Выпученными рачьими глазами со склеротическими прожилками он скользнул по Андрею.
— Ах, виноват, виноват, — вежливо сказал он. — Пожалуйте!
Он посторонился и нагнулся над бумагой, снова показав Андрею свою лысину.
Где-то Андрей уже видел эту лысину. Знакомая лысина! Забавно!.. Где же он ее видел?
Он потоптался в раздумье у порога, напрягая память, но так и не вспомнил.
Мысли были заняты другим. Сегодня пятый день его сидения в Весьегонске, а Лизы нет как нет! Он пятый день гуляет взад и вперед по Весьегонску, тогда как в Москве, возможно, решается судьба экспедиции, дело всей его жизни! Все ли там в порядке?
Машинально он шел по улицам, пока не очутился перед зданием порта. Ноги сами принесли его сюда.
Он справился в кассе о ближайшем пассажирском пароходе. Ага, ожидается через полчаса! Очень хорошо! Один билет до Москвы, будьте добры!
Неторопливо шагая, совершил Андрей последний прощальный круг по городу. Спешить было некуда. Он рассчитал время так, чтобы по пути на пристань заглянуть в контору — попрощаться с приветливой машинисткой.
На этот раз та встретила его необычно. Улыбалась, кивала, трясла своими веселыми кудряшками.
— Приехала! — сообщила она радостным шепотом. — Дождались. Вот!
Действительно, посреди комнаты, окруженная сослуживцами, стояла Лиза. На ней был просторный пыльник с откинутым капюшоном — не успела снять.
Голова с задорной челкой быстро поворачивалась из стороны в сторону. Лизу одолевали расспросами, тянулись к ней через столы, подсовывали на просмотр и на подпись какие-то бумажки.
Встреча с Андреем не удалась. Разговор произошел почти на ходу, в скачущем телефонно-телеграфном стиле.
— О! Андрей! Ты приехал? — сказала Лиза. — Извини, что так сложилось. Вызвали, понимаешь, на трассу. Ты давно в Весьегонске? Да что ты говоришь!.. Но ты все видел в Весьегонске? Все-все? И новую школу, и цветники, и обрыв? Ну как? Какое у тебя впечатление? Приятно слышать. Жаль, Леша не видал. Я к вечеру освобожусь. Андрей, покажу тебе город еще раз… Почему? О! Уезжаешь? Хотя на следующей неделе я тоже в Москву. Мы переезжаем, ты знаешь?.. А что нового с экспедицией? Леша ничего не писал?..
Впрочем, можно ли говорить более связно, когда над ухом тарахтит телефон и сотрудники, стоящие вокруг, осуждающе смотрят на Андрея!
— Ты что-то хотел сказать? — догадалась Лиза. — Что-нибудь важное? Отойдем в сторонку.
Они отошли к окну, но тут Лизу настиг владелец лысины, которую Андрей видел где-то, но так и не смог припомнить где. Суетливо шаркая подошвами, он приблизился, одернув на себе толстовку, до предела вытянув тощую, жилистую шею.
— Кнопочки я уже купил, Лизавета Гавриловна, — сказал он конфиденциальным тоном. — Вы давали указание насчет кнопочек…
Тьфу ты пропасть! Нигде не дают поговорить!
С моря донесся протяжный низкий звук. То пассажирский пароход, весь белый от ватерлинии до верхушек труб, подходил к пристани.
— Я побежал! — спохватился Андрей. — Договорим в Москве…
Только на пароходе он припомнил, где и когда видел служаку, заведовавшего писчей бумагой и кнопками. В те времена, правда, толстое брюхо его, выпиравшее из-под легонького, франтовской расцветки пиджака, перетягивала цепочка от часов. Румяное и полное лицо было украшено подвитыми усами и бородой, заботливо расчесанной на две половины, «на отлет». Но лысина была та же. Лысина осталась без изменений.
Секретарь земской управы, враг Петра Ариановича, дядюшка Леши — вот кто это был!
Бывшая «душа общества». Или, может, правильнее сказать — душа бывшего общества?..
7. Нарост на днище корабля
— Вот как! — удивился я. — Федор Матвеич жив?
— Представь себе!
— А я было думал, смыло его благодатной водичкой. В самый большой паводок. Еще в тот, в октябрьский…
— Ну-ну! Не можешь простить? Зря. А я считаю: хорошо, что не дали пойти ко дну со старым Весьегонском. Даже такой моллюск со своими кнопками и скрепками принял посильное участие в создании нового моря, в передвижке города вверх по горе, на новое место.
— Моллюск! Вот именно моллюск! Присосался к килю корабля и отправился с ним в дальнее плавание. Нарост ракушечный на днище! А ведь как они, наросты эти, замедляют ход корабля! Сам знаешь, в доках даже приходится соскребать их с днища… Ну ладно, черт с ним, с моллюском! Все-таки не пойму, почему ты не остался, если Лиза приехала? Билет было жалко, что ли?
— Хватит, отдохнул, — пробормотал мой друг, отворачиваясь. — Дел полно.
— Даже если и так! Чего же злиться-то? Прокатился в Весьегонск, встряхнулся, новое море повидал. А с Лизой объяснишься в Москве. Она же сказала, что приедет в Москву.
— При чем здесь Лиза? Заладил: Лиза, Лиза, Лиза!.. Меня последняя встреча разозлила. С дядюшкой твоим…
— Почему? Ты же сам говоришь: хорошо, что Федор Матвеич принял участие в передвижке.
— Вот-вот! О передвижке и речь. Знаешь, о чем я думал, пока ехал в Москву?
— Ну?
— О последней ссоре твоего дядюшки с Петром Ариановичем. Помнишь, дядюшка крикнул: «Скорей Весьегонск…»
А! Я понял! «Скорей Весьегонск с места сойдет, чем ты свои острова найдешь!» — в запальчивости крикнул дядюшка.
Да, что-то в этом роде. Либо «острова найдешь», либо «в острова твои поверю» — точно не припомню. В общем, это было нечто вроде провинциального заклятья.
Он подыскивал сравнение покрепче, подобное известному «когда рак свистнет», но пооригинальнее, что-нибудь совершенно очевидное, разумеющееся само собой, ясное любому дураку. И такое сравнение нашлось: «Скорей Весьегонск с места сойдет!»
Но ведь Весьегонск сошел с места! То, что раньше казалось неподвижно-устойчивым, незыблемо-прочным, неожиданно пришло в движение. Город, простоявший много лет в низине у реки, кряхтя, вскарабкался на гору. Море заколыхалось там, где недавно чернели приземистые избенки. А острова в Восточно-Сибирском море все еще не были найдены! Андрей прав…
Всю ночь прошагал мой друг взад и вперед по нашей узкой, длинной комнате. И курил, курил без передыху. В минуты большого душевного волнения закуривал козью ножку: по его словам, это помогало ему думать, навевало бодрящие фронтовые ассоциации.
Ступать Андрей старался на носки. Зная, что я при свете не могу заснуть, с неуклюжей заботливостью загородил абажур газетами, оставив только конусообразный луч, падавший на стол.
— Ни к чему это, Андрей! Все равно не заснуть мне!
Я со вздохом поднялся и тоже принялся ходить взад и вперед по комнате.
— Как два голодных тигра в клетке!
— Союшкина бы еще сюда, в эту клетку…
— Была бы сцена кормления голодных тигров!
Андрей остановился посреди комнаты:
— Нет, серьезно. Встреча с дядюшкой как-то прояснила для меня Союшкина. Ведь они похожи, ты не согласен?
— Похожи? В чем?
— Не наружностью, само собой. Даже не характерами. А что-то общее все-таки есть. Подлость, что ли?.. — Но извини, тебе неприятно про дядюшку…
Я устало махнул рукой:
— Валяй, ничего. Ты прав, конечно. Их объединяет с Союшкиным, по-моему, Весьегонск. Понимаешь, тот, старый Весьегонск, город среди болот! Он ведь очень цепкий.
Андрей, заинтересованный, остановился посреди комнаты.
— Хочешь сказать, что хоть и подняли город высоко, на пятнадцать метров над уровнем моря, а до сих пор еще кое-кто копошится у его подножия в болоте?
— Вроде того. Только Федор Матвеич помельче и весь как на ладони: сначала в этом чесучовом пиджачке нараспашку, потом бритенький, тихенький, в застегнутой до горла толстовочке. Союшкина, конечно, потрудней разгадать. Он-то ведь не просто службист — новейший титулярный советник.
— Да, титулярный советник! — с ожесточением сказал Андрей. — Самый что ни на есть титулярный! Человек двадцатого числа! Ему все равно, кому служить и что делать, лишь бы двадцатого числа жалованье выдавали.
Я кивнул.
— И кроме того, он нахал, но тихий, — продолжал Андрей. — Всюду проникает, как бурав — с легким поскрипыванием, почти бесшумно. Так и в географическую науку проник.
— Но почему именно в науку?
— Выгодно.
— Вот-вот. Оклады высокие. За звание платят. Жизнь строго размеренна и обеспечивает долголетие. А Союшкин, несомненно, очень заботится о своем долголетии.
— Ну, а талант?
— Какой талант? При чем здесь талант? Союшкин же не ученый, он притворяется ученым. Он лишь служащий по научной части. Или, иначе, состоящий при науке. Да, вот именно: «при»! Что-то вроде, знаешь, антрепренера, распорядителя или администратора, только не в театре, а в научно-исследовательском институте.
— И, по-твоему, он понимает, что бездарен?
— Догадывается. Вероятнее всего, догадывается. Очень трудно скрыть от себя такие вещи. От других-то проще.
— Ну и как отнесся к этому открытию?
— Обозлился на всех! От сознания полной своей бездарности он еще подлее стал, еще ухватистее. Жить хочет, понимаешь? И по возможности лучше, со всеми удобствами! Потому и к днищу корабля присосался…
Андрей быстрыми шагами прошелся по комнате.
— Подумай, как он затормозил ход корабля! Не впутайся он в спор, экспедицию, я уверен, давно бы разрешили.
Раздеваясь, мой друг продолжал бормотать:
— Титулярные советники! Зубрилы! Моллюски чертовы!..
Я-то понимал, что дело не только в моллюсках. Странным образом все перемешалось, спуталось в один клубок: и затянувшийся спор с Союшкиным, и неожиданная встреча с бывшим остряком, который когда-то травил Петра Ариановича, и вдобавок, конечно, неласковый прием, оказанный Лизой. Неужели она догадывалась о том, что Андрей любит ее, и отстраняла его, уклоняясь от объяснений?
Лежа в кровати, Андрей спросил:
— Ну как «Сибиряков»? Ты узнавал в комитете?
— Преодолевает тяжелые льды, — ответил я неопределенно.
Не хотелось среди ночи огорчать Андрея. Утром скажу, что «Сибиряков», пройдя Восточно-Сибирское море, потерял винт в Чукотском, то есть уже на самом пороге Берингова пролива, будучи почти у цели. В настоящее время ледокольный пароход, к которому было приковано внимание всего мира, дрейфовал на запад, в обратном направлении.
Эту новость Андрей принял на следующий день сравнительно спокойно, насупился, помолчал, угрожающе поигрывая желваками. Уныние уступило место гневу — хороший признак!
8. Весть из деревни последней
А через два дня позвонила Лиза. Она вернулась и приглашала в гости сегодня же! Обязательно сегодня!
— Очень-очень важная новость! Приходите!
— А что такое? Ты взволнована, голос дрожит.
— Брат подруги приехал из командировки. В общем, приходите расскажем. Не телефонный разговор, — и повесила трубку.
«Не телефонный разговор!..» «Приходите, расскажем!»
Ну, кажется, напрасно я старался — обучал Андрея галантному обхождению! «Брат подруги»! Гм!..
— Вот разгадка прохладного приема в Весьегонске, — сказал я. — Мужайся, Андрей, дружище! Видно, нашей Лизе поднадоела холостяцкая жизнь. Об этом нам и предстоит сегодня узнать. — И я добавил с наигранной бодростью (признаться, мне было обидно за Андрея): — Теперь все, что требуется от тебя: почаще улыбайся! Не подавай виду, не горбись — и улыбайся. Поздравления и букеты я беру на себя.
Мы пришли раньше этого «брата».
Лиза не пожелала вступать с нами ни в какие объяснения и убежала на кухню якобы надзирать за поставленным на примус чайником. Глаза у нее были почему-то заплаканы.
Но вот наконец явился и он» «брат подруги»!
Молодой. Моложе нас с Андреем лет на пять. Лицо добродушное, круглое, розовое.
— Савчук.
— Очень приятно. Ладыгин.
— Весьма рад. Звонков.
Молодой человек, оказывается, заканчивал университет и готовился стать музейным работником.
— Музейным? — удивился я. — В наше время — музейным? Старые черепки собирать? Ну и профессия — спец; по черепкам!
Андрей согласно инструкции выдавил на лице улыбку.
За чаем выяснилось, однако, что Савчук понимает кое-что и в нашей профессии.
— При изучении истории географических открытий, — сказал он, — много дает, например, лингвистика. Проанализируйте слово «Сибирь». Искаженное «сивер», то есть «север». Или вот еще — «Грумант». Почему русские назвали так Шпицберген? «Грумант» сходно по звучанию с «Грюнланд». Но Грюнланд — это Гренландия. Дошли, как видите, до корня. А корень вон где — в четырнадцатом веке! Выходит, русские принимали Шпицберген за Гренландию.
Все это было довольно интересно. Но нас, вероятно, вызвали не для того, чтобы просвещать насчет Грюнланда и Груманта, не так ли?
— Мы ждем, Лиза, — сказал я, немного нервно позванивая ложечкой в стакане. — Где она, эта твоя новость очень-очень важная?
— Сейчас Володя расскажет. Только вы не волнуйтесь, хорошо? Не будете волноваться, ребята?
Мы с Андреем переглянулись и недоумевающе пожали плечами.
— Ну, если не будете… Вы знаете, где Володя была командировке?
— Откуда нам знать?
— В Якутии.
— Собирал там материалы для Музея Революции, — пояснил Савчук. — По теме «Роль большевиков, ссыльных поселенцев, в изучении и освоении Сибири».
— Ссыльных? — Я насторожился.
— Это же, по тогдашним меркам, был цвет России. Передовые люди, привыкшие к напряженной умственной деятельности. Некоторые занимались в ссылке этнографией, геологией, метеорологией. Один даже изучал многолетние мерзлые горные породы, иначе, по старому наименованию, вечную мерзлоту.
Ах да пропади ты пропадом со своей неторопливо обстоятельной манерой изложения! Будто лекцию читает перед аудиторией! Впрочем, может, это Лиза дала ему такое указание: ввести нас в курс постепенно, исподволь подготовить? Но к чему?
— Лешка, ты волнуешься! — предостерегающе сказала она, а у самой голос дрожал и прерывался.
— Этот ссыльный, — продолжал Савчук, — жил в маленькой деревушке на берегу океана. Теперь на месте ее — порт и город Океанск.
Мы с Андреем вскочили из-за стола, расплескав чай.
— Вы напали на след Петра Ариановича?!
— Да, Ветлугина П.А. — Савчук педантично сверился с записной книжкой. — Мне подробно рассказал о нем Овчаренко, бывший его товарищ по ссылке. Сейчас он начальник порта в Океанске.
— Ну же! Не томите! Дальше!
Всю зиму, а затем весну и лето 1916 года ссыльные, по свидетельству Овчаренко, жили ожиданием революции. Вести о том, что происходит в России, доходили до Последней с большим запозданием, путаные, искаженные. Петр Арианович, может быть, не разобрался бы в них, но Овчаренко, старый подпольщик, профессиональный революционер, издалека чуял приближение бури. Поэтому он так торопил Петра Ариановича с побегом.
Тогда-то ссыльным и встретился пройдоха Гивенс.
С конца прошлого века американцы шныряли у берегов Сибири, стремясь прибрать ее к рукам. Один за другим проникали сюда через Берингов пролив предприимчивые китобои, золотоискатели, торгаши.
Гивенс был торгашом. Жителям Последней он объяснил, что шхуну его пригнала к берегу буря. Впоследствии оказалось: пригнала жадность.
Гивенсу было известно, что русское правительство запрещает продажу спиртных напитков на Крайнем Севере. Это было на руку американцу. Он мог стать монополистом, мог дьявольски разбогатеть на контрабандной продаже спиртного. Перед глазами маячил раздражающий пример Астора, который нажил миллиарды, спаивая индейские племена прерий.
Американец бросил якорь у Соленого Носа: так назывался мыс в семи верстах от Последней, где пресные воды реки сталкивались с соленой водой океана. Вереницы местных жителей потянулись туда. Обмен был выгодным для американца. За бутылку плохого, разбавленного водой виски он брал десяток песцов. Стоимость подержанного карабина измерялась еще проще: нужно было уложить шкурки одна на другую так, чтобы стоймя поставленный карабин достигал верхней из них.
Овчаренко сумел как-то сладиться с американцем.
Гивенс собирался подняться по реке, чтобы поторговать еще и в тайге. Решено было, что он заберет ссыльных на обратном пути. В Петропавловске беглецы будут отсиживаться в трюме среди пустых бочек и ящиков с пушниной, а с корабля сойдут где-нибудь в Нагасаки или в Сан-Франциско.
Поначалу американец заломил непомерную цену. Но Овчаренко был парень не промах. Поторговавшись, сошлись на полусотне шкурок. Именно столько добыли ссыльные за зиму. Плату они доставили на корабль сразу же, чтобы быть при побеге налегке.
Гивенс ушел вверх по реке.
Миновал июль, миновал и август. Сентябрь подходил уже к концу, а долгожданная шхуна не появлялась.
Неужели побег сорвется? Неужели что-нибудь помешает побегу?
Маленькие друзья ссыльных, деревенские ребятишки, которые знали, что Петра Ариановича и его товарища интересует приход американца, день-деньской дежурили на крыше. Однажды вечером запыхавшийся гонец в сбитой набок отцовской шапке примчался со всех ног в избу, где жили ссыльные.
— Пришел! — закричал он с порога. — Кинул якорь у Соленого Носа!
За добрую весть Петр Арианович подарил ему большой кусок сахару. Овчаренко кинулся увязывать вещи.
Однако не прошло и четверти часа, как в избу ввалились новые гости, три казака. Оказалось, что ссыльных приказано воротить в Энск, уездный город, стоявший выше по реке.
— Не отлучаться никуда: ни на охоту, ни рыбу ловить! — строго объявил бородач-старшой. — Зимник установится — по первопутку вас и повезем.
Приезжие отправились ночевать к куму, в другую избу, а Овчаренко и Петр Арианович остались одни.
Что произошло?
Уже после революции Овчаренко дознался правды. Гивенс рассудил по-торгашески. Шкурки песцов получены, с беглецов больше взять нечего. Зато, сообщив куда следует о готовящемся побеге, он, Гивенс, может получить значительную выгоду в торговле. В будущем, 1917 году местные власти предоставят ему преимущества и льготы по сравнению с другими иностранными купцами. Это была, так сказать, взятка натурой.
Предательство Гивенса, однако, раскрылось значительно позже.
Накануне побега и Петр Арианович, и Овчаренко действовали сгоряча. Очень хотелось думать, что Гивенс верен уговору.
Перед рассветом беглецы со всеми предосторожностями выбрались из деревни. Они почти дошли до условленного места, и за прибрежными скалами на небе четко зачернели мачты, как вдруг Ветлугин схватил товарища за плечо:
— Погоня!
Оглянувшись, Овчаренко различил над холмами три раскачивающихся силуэта в высоких шапках…
Поклажа сброшена с плеч.
— Дурень заморский! Почему не подошел поближе? Придется по льду.
— А выдержит лед?
— Эх, была не была!..
Старый припай еще сохранился в излучине берега, разрыхленный, но прочный на вид. За ним стоит шхуна. Мелкие волны катятся по воде, порывистый ветер дует с материка, пронизывает насквозь, рвет на беглецах одежду. Сзади захлопали выстрелы.
— Скорей, Петра! Скорей!
Первым на лед припая шагнул Петр Арианович и побежал, пригнувшись, размахивая руками. Следом побежал Овчаренко.
До шхуны оставалось каких-нибудь триста-четыреста шагов. На палубу высыпала команда. Слышны выкрики, смех. Быть может, там заключают пари: добегут русские или не добегут? Сам Гивенс в шубе волчьим мехом наружу, облокотившись на поручни, неподвижно стоит, наблюдая за усилиями беглецов.
И вдруг — негромкий треск! На льду берегового припая появился зигзаг. Он быстро расширяется. Овчаренко увидел трещину, сразу же с размаху упал на лед. Петр Арианович пробежал по инерции дальше.
Американские матросы закричали:
— Эй! Эй! Берегись!..
Поздно! Край припая обломился. Большая льдина, на которой остался Петр Арианович, медленно уплывает в открытое море.
Казаки добежали до Овчаренко, окружили, крутят назад руки. Внезапно остановились. В наступившей тишине слышен грохот выбираемой якорной цепи. Гивенс снимается с якоря!
— Глянь, что делает-то! — предостерегающе закричали казаки. — Уходит!
Но у Петра Ариановича нет ни весла, ни багра. Он не может управлять льдиной, не может пристать обратно к берегу.
Покачиваясь на волнах, льдина уплывает дальше и дальше.
Овчаренко уже не вырывается из рук казаков. Неподвижно стоит между ними. Волосы его треплет ветер. В свалке с беглеца сшибли шапку, разорвали ворот.
Казаки смотрят, как, заваливаясь на корму, разворачивается американская шхуна. Затем она уходит на восток, оставляя за собой длинный хвост черного дыма, медленно оседающий на воду.
Одинокую льдину с Петром Ариановичем толкает, кружит, неотвратимо несет на север.
Бородач-старшой торопливо крестится:
— Помяни, господи, раба твоего!..
Серое с белым море. Серое с белым небо. Линия горизонта стерлась между ними. Бездна…
Тягостное молчание надолго воцарилось в комнате.
Потом Лиза не выдержала, вытащила из кармана носовой платок и опять умчалась на кухню, на этот раз не придумывая уже никаких предлогов.
Андрей неподвижно сидел за столом, опустив голову. Савчук сконфуженно покашливал. Он словно бы чувствовал себя виноватым перед нами в том, что привез плохие вести.
Да, вести очень плохие.
До сих пор было известно, что Петр Арианович пропал, растворился в необъятных просторах Сибири. Несомненно, умер. Иначе вернулся бы в Москву или в Весьегонск после Октябрьской революции. Но такая смерть оставалась как бы отвлеченной. Теперь же приобрела вдруг зримую силу реальности. Был, оказывается, очевидец этой смерти, и он передал подробности, от которых мороз прошел по коже…
Я первым овладел собой.
Да, а Земля Ветлугина? Говорил ли Петр Арианович о своей Земле с Овчаренко?
Савчук встрепенулся. Говорил, конечно, говорил, и не раз! Он строил планы экспедиции, которую, несомненно, должны были разрешить после революции. Но при этом он выражал тревогу. Необычная природа островов в северо-восточном углу Восточно-Сибирского моря стала, по его словам, окончательно ясна ему лишь здесь, на Крайнем Севере, и это почему-то вселило в него сильную тревогу. Что-то угрожало его островам!
«Спешить надо, спешить! — повторял Петр Арианович. — Спешить, чтобы застать!..»
Однако что именно угрожало островам, Овчаренко так и не понял или забыл. Столько лет прошло с тех пор, и каких лет!
Вскоре мы с Андреем ушли, растерянные, удрученные.
Возвращались, как с похорон, — молча. Лишь поднимаясь по лестнице, Андрей сказал:
— Но что он хотел выразить этим: «Спешить, чтобы застать»? Понимаешь, Петр Арианович словно бы подал нам знак из могилы, хотел предупредить нас о чем-то очень важном…
— «Спешить, чтобы застать», — в недоумении повторил я. — Застать! Неужели же можно прийти на место, где должны быть наши острова, и не застать, не найти их?..
Еще на лестничной площадке мы услышали, что телефон в коридоре трезвонит во всю мочь.
Открывая дверь ключом, Андрей обругал соседей:
— Лень подойти им, что ли? Или спать завалились спозаранок? Алло! Слушаю вас!.. Да, Звонков! Добрый вечер, Владимир Викентьевич! Откуда вы? Из Комитета по делам Севера? А что случилось? О! (Андрей повернулся ко мне и бросил скороговоркой: «Сибиряков» вошел в Берингов пролив!») Это я Ладыгину, Владимир Викентьевич. Он тут, рядом со мной, стоит. Но как это произошло? Ведь винта у них не было. Винт-то был потерян? Да что вы говорите? Вот молодцы, а? Хотел бы я сейчас быть на «Сибирякове». («Поставили паруса, — торопливо пояснил он мне, — сшили из брезентов!») Да, да, понятно, Владимир Викентьевич!.. («Слышишь, Лешка! Воспользовались ветрами западных румбов, выскочили из Чукотского моря и под парусами за кончили путь».) Замечательно! Ничего не скажешь, даже завидно… О? Неужели так считаете? Вашими бы устами, Владимир Викентьевич, да мед пить. Ну, спасибо, что сразу сообщили. Ладыгин жмет руку, я то же. Спокойной ночи!
Он осторожно повесил трубку и посмотрел на меня. Я кивнул. Поход «Сибирякова», триумфально закончившийся, круто менял ситуацию в нашу пользу. Теперь экспедицию к Земле Ветлугина обязательно должны были разрешить!

 уточняющая частица
уточняющая частица